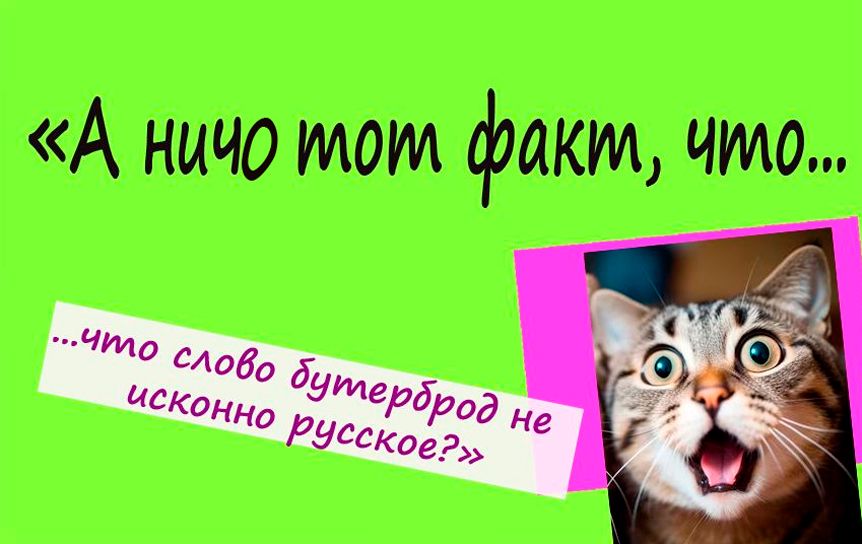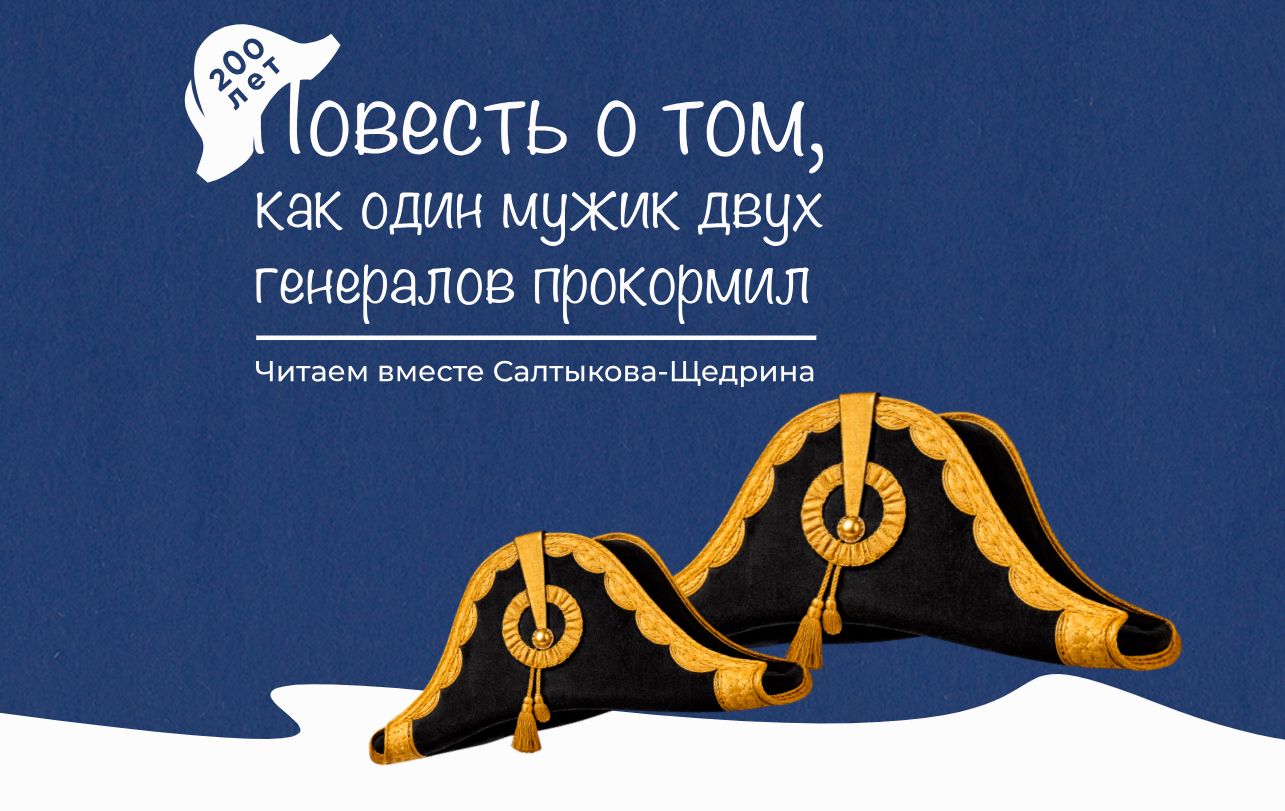Текст: Елена Кухтенкова/РГ
Владимир Маркович, современный русский язык беднеет, его носители не так красноречивы, как несколько десятков лет назад, исчезают важные слова. Согласны? Что угрожает нашему "великому и могучему"?
Владимир Пахомов: Отвечу как филолог: единственное, что может угрожать языку, это люди, которые пытаются его "спасти", не понимая, что в нем происходят обыкновенные, здоровые языковые процессы.
Нравится нам это или нет, но бок о бок с литературным языком идут и другие языковые пласты, в том числе и просторечные, — и это тоже важные части русского языка. Никуда не денутся и молодежный или другие жаргоны. Язык всегда находится в контакте с другими языками, а, следовательно, в него будут приходить новые иностранные слова. Даже наличие в языке самых грубых, непристойных слов — тех, что называются матерными, — признак того, что язык жив и здоров.
Современная лингвистика утверждает, что каждые 50 лет из языка исчезает 15 процентов слов, которые мы считали новыми. А к этому как относиться?
Владимир Пахомов: Мир меняется. Какие-то явления, например, пандемия, уходят из нашей жизни, а с ними уходят и слова. Кто сегодня употребляет слова "агитпункт", "соцсоревнование", "госплан"? Все это ушедшая натура. Нет больше СССР. Впрочем, исчез и "городничий" — слово из дореволюционной России. Из предыдущей эпохи.
Если слово ушло, значит, оно языку объективно не нужно. Нельзя из языка что-то вытащить или вставить. Но это не означает, что мы такие серые, неграмотные, с наплевательским отношением к истории, забыли прекрасное русское слово. Язык не может законсервироваться, иначе он теряет способность обслуживать его носителей, теряет способность описывать окружающий мир. Поэтому появление в языке новых слов и новых значений как раз очень радостная новость.
А иногда бывает, что новое слово более точно описывает ту или иную реалию. Или просто слово становится модным, ярким, современным, а старое уже кажется неуместным. Очень часто новые слова появляются в речи молодых носителей языка. Каждое новое поколение немного меняет язык. Так что обновление лексики — тоже совершенно естественный процесс, это не то, из-за чего нужно рвать на себе волосы.
И если бы слова не уходили и не приходили, мы сейчас бы общались на том языке, на котором были написаны древнерусские берестяные грамоты. Этот язык совершенно не подходил бы для сегодняшнего дня, потому что многое в мире, и в нашей жизни с тех пор изменилось.
Почему тогда с периодичностью бывают "обострения" у консерваторов от языка, последователей Шишкова, у которого с иронией просил прощения Пушкин?
Владимир Пахомов: Носители языка почти всегда непримиримы по отношению ко всему новому в языке, почти всегда в этом вопросе очень консервативны. И все, что происходит в языке, всегда пробивается с огромным трудом. Новые ударения, новые значения, новые грамматические характеристики слов. Многие считают, что, к примеру, иноязычные слова только портят наш язык, и предлагают их заменить на старые, давно существующие в языке. Парадоксально, но слово, которое когда-то вызывало протесты, казалось чуждым, ненужным, портящим язык, через несколько столетий становится своим, родным, приятным, и его предлагают как замену чему-то новому. Вот слово "вайб" сейчас многие не принимают, говорят есть прекрасное "русское" слово "атмосфера". Но какую ж злобу вызывала "атмосфера" в XIX веке. Как же так, нужно говорить по-русски — "колоземица"!
Зачем говорить "маффин", когда можно сказать "кекс", зачем "сэндвич", если есть "бутерброд"? А "кешбэк" по-русски — это "возврат денег". Но и кекс, и бутерброд, и деньги — это не исконно русские слова, просто они стали привычными, потому что прошло время.
А есть слова-новинки, которые, по вашему мнению, лучше старых?
Владимир Пахомов: Бывает, когда новое слово в чем-то уточняет, сужает значение, которое есть у старого. Вот прекрасный пример — "донат". Часто можно услышать: зачем нам чужеземный "донат", когда есть прекрасное русское слово "пожертвование"? Но "донат" и "пожертвование" — это вещи разные. Во-первых, донат — это пожертвование в Интернете. Ситуацию, при которой мы даем деньги батюшке, который собирает на храм в переходе, донатом не назовешь.
Пожертвование — это не только дар в пользу какого-либо лица, учреждения, но и добровольный отказ от чего-либо, жертва (конечно, это значение не первое, но существующее, закрепленное в словарях).
А донат же (от латинского "подаренный, отданный") — это еще и какая-то денежная поддержка, благодарность за что-то, форма оплаты, может быть, за интересный контент, желание поддержать какого-то интересного человека, его хороший проект, возможно, войти в число особо приближенных к нему лиц, потому что тем, кто "донатит", может что-то прилететь в ответ. И слово "донат" не предполагает никакой идеи жертвенности, мы ничего от себя не отрываем, чтобы кому-то дать, мы просто хотим кого-то поддержать, кого-то поблагодарить или стать кому-то ближе.
Недавно прошел День борьбы с ненормативной лексикой. Как можно сократить количество запретной лексики у подростков?
Владимир Пахомов: Я убежден, что с матом как явлением не нужно бороться. А вот всячески разъяснять, особенно молодым носителям языка, в каких условиях эти слова применимы, а в каких нет, необходимо. Просвещать, что в языке и для чего используется. Не запрещать молодежный жаргон, а разъяснять, когда уместно жаргонное слово, а когда нужно литературное. Научить носителя языка менять так называемые речевые регистры.
В сети сейчас популярен мем: "Себастьян Биткоин". Он возник просто из оговорки мальчика, который думал, что именно так звучит имя и фамилия великого композитора. А какие мемы еще сейчас популярны?
Владимир Пахомов: Давайте из копилки "Тотального диктанта". "А ничо тот факт, что". Мем иногда и пишется, и произносится нарочито неправильно. "Ничо" вместо "ничего" специально используется, когда хотят обратить внимание на что-то очевидное, на что-то, что другой не учитывает.
Вот ситуация: предлагают заменить слово "сэндвич" русским словом "бутерброд". Я могу ответить: "А ничо тот факт, что слово бутерброд не исконно русское". Этот мем кажется ярким, играющим, образным. Он очень быстро распространился в Сети. Но пройдет какое-то время, и его забудут, как и другие мемы. Чем чаще будет употребляться, тем скорее всем надоест.
А как вам предложения возвращать в язык какие-то старые грамматические формы, например, форму причастия будущего времени? Кому-то кажется, что звучать будет красиво.
Владимир Пахомов: На этот случай есть анекдот про девочку, которая заплакала, когда поняла, что у причастий нет будущего.
Впрочем, отвечая, можно уйти в вопросы философии языка, в тонкие грамматические нюансы, но скажу так: причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного. Поэтому привязка ко времени очень важна для этой части речи. "Летящая птица" (она летит сейчас) или "летевшая птица" (она в прошлом летела), а поскольку будущее еще не произошло, еще не свершилось, еще не состоялось и мы не знаем, произойдет или нет, то, наверное, вот этот признак, привязанный ко времени, мы передать не можем.
А что касается вернуть в язык: если бы язык хотел, чтобы причастия будущего времени в нем были, мы бы никакими клещами их из него не вытащили. В данный момент, в этой точке развития языка, они ему не нужны. Однако все правила, которые мы изучаем в школе, действуют здесь и сейчас. Поэтому не стоит удивляться, если когда-нибудь причастия будущего времени снова в языке появятся.