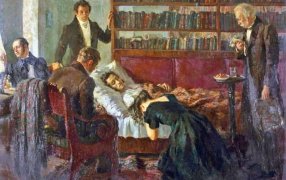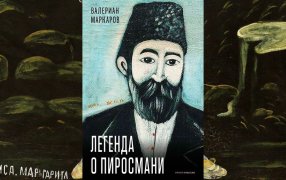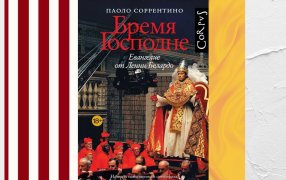Пролог
Сейчас это трудно представить, но когда-то люди понятия не имели о радиоактивности, а уран использовали в качестве основы для создания желтой краски. Ситуация изменилась лишь в 1896 году, когда французский ученый Анри Антуан Беккерель (1852-1908) обнаружил способность урановых соединений испускать лучи, названные в его честь беккерелевскими. Название, надо сказать, не прижилось. Через два года супруги Мария Склодовская (1867-1934) и Пьер Кюри (1859-1906) открыли новый химический элемент, который они назвали радием. Способность радия испускать лучистую энергию превышала урановую в миллион раз.
Не все ученые конца XIX — начала ХХ столетий приняли новую картину мира, допускающую существование металлов и минералов, теряющих свои атомы без всякого внешнего на них воздействия. И если Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), тогда еще молодой минералог и один из основателей геохимии, сразу догадался, какие возможности дает человечеству использование радиоактивных элементов, то великий Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), создатель знаменитой таблицы, не верил в делимость атома, полагая его нижней границей в структуре вещества. Как бы то ни было, а мысль о неисчерпаемых запасах энергии атома постепенно овладевала умами.
А что же писатели-фантасты, которые по роду своих занятий должны интересоваться новейшими течениями в науке? К чести людей этой профессии, надо сказать, что они не подкачали. Посмотрим, как начиналась и развивалась тема использования внутриатомной энергии в отечественной фантастике.
Первые предчувствия
В силу особенностей русской литературы, которую всегда интересовали гуманистические и социальные последствия любого общественно значимого процесса, будь то освобождение женщины от условностей и предрассудков высшего света или народное просвещение, наша изящная словесность в использовании сил, скрытых в глубинах материи, видела прежде всего возможность увеличения благ, а не уничтожение всего живого на Земле.
Первыми, как водится, отозвались поэты, еще в начале ХХ века увидевшие в атоме символ глубочайших тайн мироздания, невероятных возможностей и опасностей. Вот как выразил свой восторг революционер-народник, двадцать лет проведший в заточении в Шлиссельбургской крепости, ученый и философ, Николай Александрович Морозов (1854-1946) в 1910 году, в стихотворении «Атом жизни»:
- Из каждой былинки
- В земле и в воде,
- Из каждой пылинки
- Я слышу везде
- Напев сокровенный,
- Как сон наяву:
- «Я атом Вселенной,
- Я вечно живу!»
- На каждом светиле,
- Таинственно скрыт,
- В энергии, силе
- Напев тот звучит,
- Напев неизменный,
- Как сон наяву:
- «Я атом Вселенной,
- Я вечно живу!»
- Из центра сознанья,
- В началах начал,
- Я в каждом созданье
- Напев тот слыхал,
- Напев вдохновенный,
- Как сон наяву:
- «Я атом Вселенной,
- Я вечно живу!»
А поэт-символист, один из первых русских научных фантастов, Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924) прозревал в оболочке атома целую вселенную. Кстати, эту гипотезу впоследствии нередко обыгрывали в своих произведениях другие фантасты. Вот что он написал в 1922 году в стихотворении «Мир электрона»:
- Быть может, эти электроны —
- Миры, где пять материков,
- Искусства, знанья, войны, троны
- И память сорока веков!
- Еще, быть может, каждый атом —
- Вселенная, где сто планет;
- Там всё, что здесь, в объеме сжатом,
- Но также то, чего здесь нет.
- Их меры малы, но всё та же
- Их бесконечность, как и здесь;
- Там скорбь и страсть, как здесь, и даже
- Там та же мировая спесь.
- Их мудрецы, свой мир бескрайный
- Поставив центром бытия,
- Спешат проникнуть в искры тайны
- И умствуют, как ныне я;
- А в миг, когда из разрушенья
- Творятся токи новых сил,
- Кричат, в мечтах самовнушенья,
- Что бог свой светоч загасил!
Не прошел мимо темы и другой поэт и писатель Серебряного века, не чуждый гиперболизированному восприятию реальности, Андрей Белый (1880-1934). В 1921 году он пишет поэму «Первое свидание», где есть такие вдохновенные строки:
- И было: много, много дум;
- И метафизики, и шумов…
- И строгой физикой мой ум
- Переполнял: профессор Умов.
- Над мглой космической он пел,
- Развив власы и выгнув выю,
- Что парадоксами Максвелл
- Уничтожает энтропию,
- Что взрывы, полные игры,
- Таят томсоновские вихри,
- И что огромные миры
- В атомных силах не утихли,
- Что мысль, как динамит, летит
- Смелей, прикидчивей и прытче,
- Что опыт – новый…
- — «Мир – взлетит!» —
- Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче…
- Мир – рвался в опытах Кюри
- Атомной, лопнувшею бомбой
- На электронные струи
- Невоплощенной гекатомбой;
- Я — сын эфира. Человек, —
- Свиваю со стези надмирной
- Своей порфирою эфирной
- За миром мир, за веком век.
- Из непотухнувшего гула
- Взметая брызги, взвой огня,
- Волною музыки меня
- Стихия жизни оплеснула:
- Из летаргического сна
- В разрыв трагической культуры,
- Где бездна гибельна (без дна!), —
- Я, ахнув, рухнул в сумрак хмурый...
Первые пророчества
И все же первым русским автором, который описал мирное применение атомной энергии, стал революционер, друг Владимира Ильича Ленина (1870-1924), Александр Александрович Богданов-Малиновский (1873-1928). В 1908 году был опубликован его научно-фантастический роман «Красная звезда». Вот как описывает писатель принцип, на котором движется придуманный им марсианский межпланетный корабль этеронеф:
«Движущая сила этеронефа — это одно из радиирующих веществ, которые нам удаётся добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение его элементов в сотни тысяч раз; это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приёмов. Таким способом освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлагаются со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определённому направлению т. е. по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному закону живых сил, можно рассчитать, что незначительной части миллиграма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать этеронефу равномерно-ускоренное движение».
Иными словами, русский фантаст одним из первых в мировой литературе допустил возможность использования «радиирующих веществ» для космических полетов.
До появления следующего атомного межпланетного корабля в отечественной фантастике должно было пройти не только тринадцать лет, но и произойти коренные изменения в жизни России. Между двумя литературными атомными космическими кораблями пролегла Первая мировая война, две русских революции и война Гражданская.
«Освобожденные от тяжести «победители пространства» всплывали до пределов тяготения, и тогда небольшого радиоактивного двигателя было достаточно, чтобы развить планетную скорость и лететь в любом направлении...» — таким увидел межпланетный транспорт герой повести Вивиана Азарьевича Итина (1893-1934) «Страна Гонгури» (1921) студент Гелий, которого его товарищ по заключению в белогвардейском застенке под гипнозом переносит в чудесную страну грядущего.
***
В 1922 году был образован совершенно новый тип государства — Союз Советских Социалистических Республик. Именно этой стране было суждено стать ведущей мировой державой в области мирного использования атомной энергии. Через два года после провозглашения СССР выходит роман Виктора Алексеевича Гончарова (1900-1929) «Психомашина», в котором упомянут летательный аппарат селенитов, работающий на разложении атомов.
А вот в романе Николая Ивановича Муханова (1882-1942) «Пылающие бездны», опубликованном в том же 1924 году, действуют уже целые флотилии атомных космических кораблей, участвующих в межпланетной войне межу Земной Федерацией и Федерацией Марса. Впрочем, мирным такое применение атома уже не назовешь.
В том, что атомная энергия найдет широкое применение в далеком будущем, был уверен и советский писатель Вадим Дмитриевич Никольский (1886-1938), опубликовавший в 1927 году научно-фантастический роман «Через тысячу лет». Два путешественника во времени, немецкий ученый Фарбенмейстер и его русский помощник инженер Андрей Осоргин, оказываются в 3000 году. Среди прочих чудес будущего они узнают о существовании воздушно-космических кораблей, которые двигаются силою реакции, извергающихся из продуктов атомного распада. Этот же роман содержит поразительное предвидение, касающееся опасности использования атомной энергии:
«...Это случилось около сорока двух декад, или четыреста двадцать лет тому назад. Как раз здесь, на этом месте, погребенном под наносами Северного моря со времени великой катастрофы атомного взрыва, происшедшей, по вашему исчислению, в 1945 году, шли работы по постройке нового города...»
Напомним, что до бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, на момент выхода романа, оставалось еще восемнадцать лет.
Советские фантасты всегда ратовали за исключительно мирное использование атомной энергии и, в отличие от своих заокеанских коллег, никогда не смаковали картины ядерного Апокалипсиса. Однако и отмахнуться от опасности, которую сулит неконтролируемое расщепление атома, тоже не могли. Правда, тема атомной войны, хоть и была поднята британским классиком Гербертом Уэллсом (1866-1946) еще в 1914 году, не скоро протоптала дорожку на страницы научно-фантастических произведений, особенно в СССР.
В период бурной индустриализации наша страна особенно нуждалась в электроэнергии. По плану ГОЭЛРО повсюду строились электростанции на торфе, угле и мазуте. Наиболее перспективными представлялись гидроэлектростанции. Образы исполинских плотин, воздвигаемых в самых отдаленных уголках Советского Союза, будоражили воображение. Фантасты, вслед за широко мыслящими учеными, упоминали в своих произведениях электростанции, использующие энергию ветра, земных недр и Солнца, а вот гигантские возможности, которые открывало применение расщепляющихся материалов, в те времена представлялись, видно, уж слишком фантастическими.
***
Тем не менее, поиски в этом направлении фантасты все же предпринимали, предлагая порой экзотические технологии. Например, писатель, хотя и не являвшийся профессиональным фантастом, но все же оставивший яркий след в этом виде литературы. Речь идет об Андрее Андреевиче Платонове (1896-1951). В повести «Эфирный тракт», написанной в 1927 году, опубликованной, правда, лишь в 1968-м, Платонов рассматривает атом и другие элементарные частицы как одну из форм... живой материи.
«...атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая — электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же!.. время жизни электронов должно исчисляться цифрой пятьдесят — сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем у человека — высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое — как миг. Это «множество времен» — самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон...»
Такая трактовка природы атома остается уникальной не только в отечественной, но и в мировой фантастике. Однако на этом новаторство Платонова не завершается. Он выдвигает гипотезу, что если создать «эфирный тракт» — электромагнитное русло — канал для притока эфирной энергии к электронам, — то можно выращивать металлы, как растения или животных. Более того, писатель считает такую технологию не только возможной в ближайшем будущем, но и уже использованной нашими предками. В повести рассказывается о находке в Сибири следов высокоразвитой цивилизации Аюны, существовавшей в глубокой древности. Аюниты ведали многие тайны творения, в том числе и технологию «эфирного тракта».
«Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов, и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша аюна. Но больше того: дети росли скорее в два раза и жизнь в них пульсировала, как сильнейшая машина. Все остальное — сознание, чувство и любовь — выросло в страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков...»
И хотя повесть Андрея Платонова оставалась неопубликованной более сорока лет, его идея касательно того, что внутриатомную энергию можно использовать не только для получения электричества, не пропала втуне для советской научно-фантастической литературы. Однако не будем забегать вперед.
Отступление от мечты
Выше мы уже упоминали, что использование атомных генерирующих и силовых установок для получения электрической энергии долгое время оставалось за пределами внимания советских писателей-фантастов. Например, такой весьма популярный советский писатель, как Григорий Борисович Адамов (1886-1945), в своем знаменитом романе «Тайна двух океанов», впервые опубликованном в 1938 году, снабдил придуманную им подводную лодку «Пионер» не атомным реактором (как в одноименной экранизации 1955 года), а сверхъемкими аккумуляторами, которые заряжаются с помощью термопар, использующих разницу температур поверхностного и придонного слоев океанской воды. А в романе 1937 года «Победители недр» для обеспечения энергетических нужд народного хозяйства используется уже тепло земных недр.
И даже в романе «Изгнание владыки», опубликованном уже после смерти автора в 1946 году, мы видим такую вот воодушевляющую картину: «В гигантские ожерелья из гидростанций превратили советские люди Волгу, Каму, Амур, Обь, Иртыш, Енисей, Лену и, наконец, суровую красавицу Ангару. Энергия этих рек снабдила электричеством огромные области необъятной Страны Советов. В станциях подземной газификации, разбросанных по всему Союзу, горел неугасимым огнем низкосортный уголь, превращаясь под землей в теплотворный газ. Сотни тысяч гигантских ветровых электростанций покрыли поля страны, улавливая «голубую» энергию воздушного океана; крупные и мелкие гелиостанции на Кавказе, в Крыму, в республиках Средней Азии превращали солнечное тепло в электрическую энергию. Приливно-отливные и прибойные станции на берегах советских морей, электростанции, построенные на принципе использования разности температур в Арктике, — весь этот океан энергии, непрерывно вырабатываемой и хранимой в огромных электро-аккумуляторных батареях, был в распоряжении советских людей, готов был выполнять для них любую работу...» И ни слова об атомной энергии!
Да что там Адамов! Александр Романович Беляев (1884-1942), первый отечественный профессиональный писатель-фантаст, в своем удивительно точном предвидении будущего, сделанном им в романе «Лаборатория Дубльвэ», опубликованном в 1938 году, нашел место чему угодно, даже — рентгеновской лаборатории, но не атомной энергетике.
«Давно исчезли паутина проводов и «аллеи столбов», исчезли грохочущие трамваи и даже троллейбусы, — пишет Беляев. — Только бесшумные двухэтажные автобусы и авто на аккумуляторах двигались по улицам, а возле тротуаров медленно катились удобные одноместные кресла-самоходы — любимый способ выезда в город пожилых людей, одиноких старух и стариков пенсионеров. Молодые люди скользили по тротуарам на автороликах — этот способ передвижения был изобретен совсем недавно...»
Удивительно знакомая картинка, не правда ли? Неясно только одно — откуда взялась вся эта электроэнергия? Складывается впечатление, что атомная тематика в советской фантастике на время была закрыта. Косвенное подтверждение этому можно обнаружить в переписке Аркадия Натановича (1925-1991) и Бориса Натановича (1933-2012) Стругацких.
«Как ты помнишь, “В” было передано в Главатом по требованию Главлита в середине марта. В середине апреля, после троекратного напоминания о том, что книгу нельзя задерживать так долго, что стоит производство и т.д., а также о том, что от них требуется всего-навсего сообщить, содержатся ли в книге закрытые сведения по атомной энергетике, в Детгиз пришла официальная бумага за подписью Кондорицкого: “Закрытых сведений в книге не содержится, но книгу печатать нельзя, потому что она написана на низком уровне”. Уповая на благоразумие Главлитовских работников, мы переслали бумагу к ним. Действительно, через день Калинина сообщила, что книгу она несмотря ни на что подписала, но чтобы отдать ее нам, она должна знать, что думает по поводу этой резолюции Детгизовское начальство. И вот тут-то и началось. Пискунов сказал: “Очень сожалею, но из-за одной книжки я ссориться с государственным учреждением не буду”. Компаниец вместо того, чтобы позвонить Калининой и сказать, что плевал он на мнение Главатомщиков, стал звонить к Кондорицкому, чтобы выяснить, что тот имел в виду под словами “написано на низком уровне”.
Но тут оказалось, что сам Кондорицкий книгу не читал, а читал ее Калинин, а Калинин уехал в отпуск и вернется к середине июня. Так тянулось две недели. Беркова неутомимо сидела на Компанийце и заставила его говорить с Кондорицким серьезно. В конце концов Кондорицкий не выдержал и сознался, что развернутое заключение на книгу, написанное Калининым, имеется, но дать он нам его не может, потому что оно секретное. “Хорошо, — сказал Компаниец, — я пришлю к вам своего сотрудника Беркову, пусть она посмотрит на это заключение”. Кондорицкому ничего не оставалось, кроме как согласиться. И вот Беркова отправилась в Главатом. Кондорицкий ее, конечно, не принял, а выслал ей второго своего референта, Ильина. Тот, рассыпаясь в извинениях, сказал, что заключение показать ей не может, оно-де не для посторонних глаз, но что он его помнит и может сообщить основные положения».
Стругацким удалось отстоять свою повесть, но вполне возможно, что произведения других авторов в структуре загадочного «Главатома» не смогли обойти цензурные ограничения и были либо запрещены к изданию, либо — что наиболее вероятно — из них были изъяты любые упоминания об атомной энергетике.