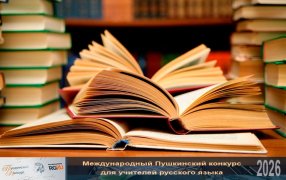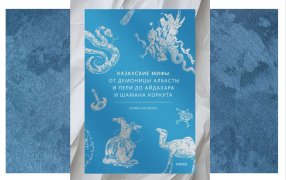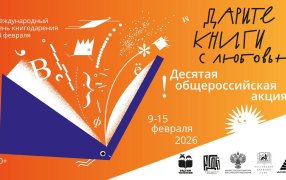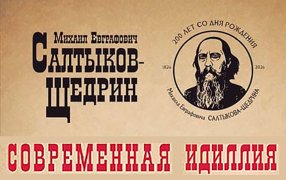Текст: Михаил Визель
Писать о музыке, если это не партитуры и не специальная методическая литература — может показаться занятием странным: музыку надо слушать, как танцы — танцевать. Но тем не менее количество желающих писать о музыке и читать о музыке не уменьшается, причем во всех ее проявлениях по всей временнóй шкале. Пробежимся и мы по всем регистрам весны 2025 года.
Данил Рябчиков. "Утешение средневековой музыкой. Путеводитель для современного слушателя"
М.: АСТ, Лед, 2025. — 320 с.
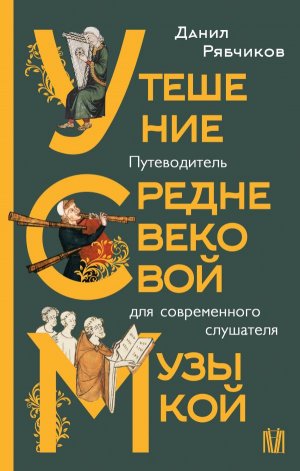

Начиная свой популяризаторский труд с очередного напоминания известного анекдота о современных школьниках, которые в пушкинских строках "бразды пушистые взрывая..." не поняли правильно примерно ни одного слова, автор — который не только исследователь, но и действующий исполнитель на средневековых щипковых инструментах — последовательно и терпеливо объясняет значение звучных (во всех смыслах) и малопонятных слов: мотет, кантига, кондукт, рондель. Не забывая, разумеется, рассказывать и об их авторах, средневековых компоновщиках звуков, включая не только относительно знаменитого Гильома де Машо, но и, неожиданно, многострадального Пьера Абеляра. Но книга не случайно называется не "История...", а "Утешение...". Чтение, если правильно настроиться, и впрямь утешает — не хуже философии. Не случайно последняя часть книги — интервью автора с современными исполнителями-аутентистами. Они, очевидно, в средневековой музыке свое утешение уже нашли.
Надежда Сикорская. "Русский тенор Соломон"
М.: Время, 2025. — 512 с.

Соломон Хромченко прожил долгую человеческую жизнь (1907—2002), почти до последних дней продолжая жизнь артистическую и педагогическую. В которой было "всё как полагается" — ведущие партии в Большом театре, преподавание в Гнесинке, прилагающийся к этому специфический советский "соцпакет", от квартиры внутри Бульварного до прикормленных мясников. Но, прямо сказать, легендой, как Козловский и/или Лемешев, не стал. Taк что желание Надежды Сикорской освежить память о своем любимом дедушке вполне понятно. Как извинительна и избранная ею, профессиональной журналисткой, форма "псевдомемуаров", якобы написанных Соломоном Марковичем на склоне лет в тетради, подаренной любимой внучкой Наденькой перед её отлетом в Париж в 1992 году. И в которых он последовательно, примеряясь к понятиям юной девушки, многого уже не заставшей, излагает этапы своего действительно большого пути, пролегавшего по всему ХХ веку. Конечно, не понаслышке "русский тенор Соломон" знает и про фронтовые бригады, и про "борьбу с космополитами", и про оттепель, и про перестройку. И обо всем этом, руками Надежды Сикорской, последовательно и рассказывает.
Особенность этой насыщенной фактами и документами книги в том, что, улетев в Париж, внучка перебралась в Швейцарию, да так там и осталась. И взгляд героя ее книги, т.е., собственно, ее взгляд — это взгляд на СССР "оттуда". Что ж, как говорится — имеет право.
Пол Секстон. "Чарли сегодня хорош. Авторизованная и официальная биография легендарного барабанщика Rolling Stones"
Пер.с англ. О. Черепановой
М.: Эксмо, Бомбора, 2025. — 224 с.
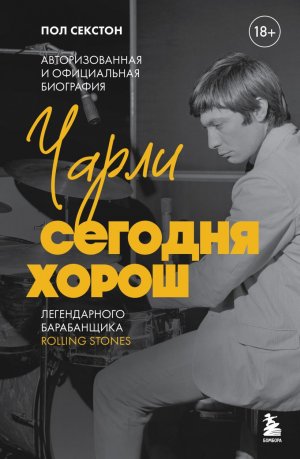
Ни одной сколь-нибудь развернутой статьи о Чарли Уоттсе не обходится без упоминания о плюхе, которую тот отвесил пьяному Мику, когда тот вломился в его гостиничный номер с воплем: "Где мой чертов ударник?" "Никогда не называй меня "твоим ударником", — гласил его вошедший в легенду ответ Чарли. — Это ты мой чертов вокалист!"
Этот анекдот (причем обоим героям которого было уже за сорок) показывает, бесспорно, довольно много. И то, кто на самом деле главный в рок-группе — яркий фронтмен или держащий ритм ударник; и о взаимоотношениях конкретно в легендарной рок-группе The Rolling Stones. A главное — каков был на самом деле молчун и тихоня Чарли, похожий скорее в своем всегда выглаженном костюме на джазмена из респектабельного клуба, чем на рок-звезду. И действительно, он был нетипичной рок-звездой и нетипичным роллингом. Если не примерный, то нормальный семьянин, всегда равнодушный к сексуальным и почти всегда, за исключением короткого периода начала 80-х, — к прочим излишествам. И, увы, не открывший, в отличие от Мика и Кита, секрета вечной если не молодости, то живучести — Чарли Уоттс умер в середине 2021 года, едва успев отметить 80-летие.
Эта книга вышла в начале следующего года и, как следует из названия, герой успел ее авторизовать. Но короткие вступления Мика и Кита уже вполне мемориальны. Хотя, разумеется, они всегда знали, ктò сидит за их спиной — это именно слова Мика вынесены в заголовок. Что же касается автора — он сопровождал Роллингов как журналист добрые тридцать лет и, разумеется, знает предмет. Книга выстроена в хронологическом порядке — но, уверяет Пол Секстон, это некоторая условность: его интересуют не столько этапы большого пути "катящихся камней", неоднократно уже описанные, сколько Чарли как человек. В первую очередь — отношения с женой Ширли, на которой он женился еще в 1964 году и которые при его жизни оставались наглухо закрыты. И конечно, его музыкальные вкусы. В которых, кстати, музыка "Роллинг стоунз" занимала далеко не первое место.
Остается добавить, что книга и по-русски вполне читабельна — что, увы, как показывает практика, с переводными книгами этого жанра бывает не всегда.
Рики Винсент. "Фанк. Музыка, люди и ритмы первой доли"
Пер. с англ: Максим Леонович, под редакцией Ильи Завалишина
М; Екб.: Кабинетный ученый, 2024. — 448 с.
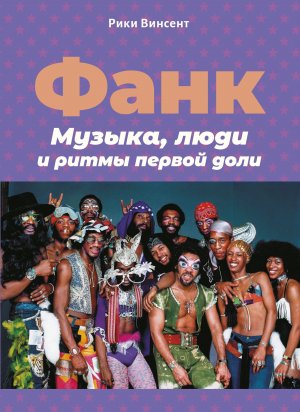
Фанк — не столько музыкальный стиль или размер, сколько мироощущение — вечной вечеринки, грандиозной дискотеки, ритмичной "пульсации вен", говоря словами из совсем другой песни. Немудрено, что под это короткое сленговое словечко легко "подвёрстывается" что угодно и кто угодно — от экстатического Джеймса Брауна и вполне попсового Стиви Уандера до упертых джазменов Хенри Хенкока и Майлза Девиса. От одного из столпов классического рока Джими Хендрикса до мрачной психоделии Funkadelic. От ломаного фанк-рока Red Hot Chile Peppers до фанк-рэпа Dr. Dre и ему подобных. Солидный труд академического преподавателя, впервые опубликованный еще в 1996-м (и тогда попавшийся на глаза русскому переводчику), пытается разложить всю эту пестроту не столько по полочкам, сколько по шкале времени — доведенной до 2020-х. "Фанк — это DIY 2020-х!" — уверяет автор в предисловии 2021 года. "Фанк — в надписи на асфальте Black Lives Matter!". Ну, наверно, можно и так сказать. Но милее то определение фанка, которым основной текст открывается:
Джефф Чанг. "Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения
Пер. с англ. Алексея Алеева
М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. — 624 с.
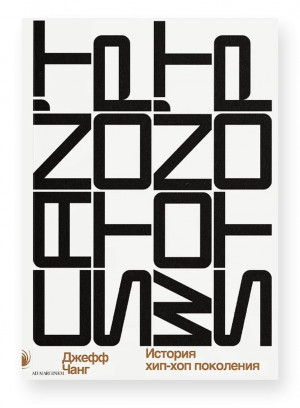
Истории было угодно, чтобы момент появления хип-хопа, в отличие от множества других массовых явлений и движений, оказался зафиксирован совершенно точно: это легендарный "блэкаут", тотальное обесточивание Нью-Йорка в ночь с 13 на 14 июля 1977 года. Город тогда погрузился во тьму, не работали все сигнализации… а наутро у черных пацанов в беднейших районах откуда-то появились мощные колонки и навороченные диджейские пульты, на которые они раньше только облизывались в дорогих магазинах — а теперь крутили их прямо на улице, подкручивая и притормаживая пальцем иголку. Впрочем, сводить хип-хоп, ставший языком даже не поколения, а нескольких поколений молодых людей по всему миру, к диджеингу, забывая про специфический стиль в одежде, танце, про граффити, так же неверно, как сводить этот труд аж 2005 года к анекдоту в духе баллад о Робин-Гуде. Джефф Чанг — журналист и историк, он вводит незамысловатую, в общем, музыкальную основу в широкий контекст — от африканских и ямайских корней до рейганомики и глобализации. И то и другое закончилось? Возможно. Но к хип-хопу это явно не относится.