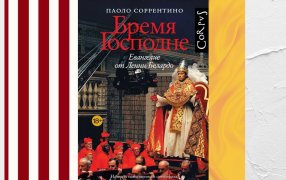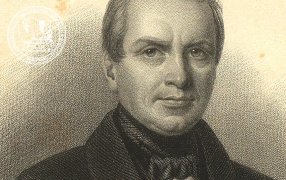Текст: Мария Сафонова

Он и задал тон встрече, сразу обозначив: театр никогда не был литературоцентричным; а если бы и был — то быстро потерял бы свою идентичность. Однако это вовсе не значит, что театр не нуждается в новой литературе.
Как это ни удивительно, но вопрос взаимодействия театрального и литературного процесса стоит остро: заметно, что креативные индустрии не пересекаются; открытых дверей (или хотя бы тех, в которые можно было бы постучаться) — нет. Авторам вроде как и хочется ставиться на сцене, но к кому идти с предложением сделать инсценировку — не очень понятно; что делать с авторскими правами, когда без спроса твою книгу берёт в работу студенческий театр, неясно и подавно.
При этом с кино книжная индустрия взаимодействует куда лучше. Если верить Асе Володиной, в «Эксмо» авторам уже давно прямо рассказывают, чем и как можно заинтересовать киношников; а вот для театров такой практики не существует. Во многом потому, что и театральные режиссёры, заваленные количеством пьес (их, в отличие от киносценариев, пишут уже две с половиной тысячи лет!) и репетиций, не особенно тянутся к современной литературе — слишком долго (и, если быть честными, дорого) перечитывать 50 романов, чтобы найти на постановку один-единственный. Павел Руднев вспомнил только двух режиссеров, которые заинтересованы в современной литературе. Причем обе – женщины: Марина Брусникина и Светлана Землякова. (Как, собственно, только женщины представляли и писательский ряд.)
Кроме того, в театральных институтах не существует хороших курсов по современной литературе. Как сказал Руднев, если курс современной литературы заканчивается на Вампилове — это нормально, а если на Петрушевской — то это уже настоящее педагогическое достижение.
Другой вопрос поднял из зала режиссёр Дмитрий Тарасов. Для любого прозаического текста нужна инсценировка — а это отдельный жанр драматургии. Готовы ли авторы, что кто-то будет работать с их текстом? Светлана Павлова сказала, что для неё это не проблема и она не будет «капризничать». Для Нади Алексеевой любое прочтение её текстов со сцены уже приятно. Ася Володина поделилась неудачным опытом постановки её романа «Протагонист» на «Артхабе» в МХТ («Артхаб» — это экспериментальный формат МХТ, в котором создаются часовые наброски спектаклей). И пусть «черновик» стал провалом, нашлась команда энтузиастов, которые захотели работать с этим текстом дальше.
Всё тот же Дмитрий Тарасов заметил, что форматов для пишущих авторов очень много: можно пойти в театральные лаборатории, на конкурсы, фестивали (такие, как «Любимовка», например), участвовать в том же «Артхабе». Это — места, где можно пойти друг другу навстречу самым органичным способом.
В конце дискуссии писательницы провели питчинг своих работ, которые хотели бы увидеть на сцене. Надя Алексеева рассказала про свой роман «Белград», номинированный на «Ясную Поляну» и «Большую книгу»; Ася Володина выбрала «Часть картины», отметив, что школьная арена близка к театру, как ничто другое; Евгения Некрасова прочитала отрывок из рассказа «Человедица и медведица» из своего нового сборника «Адвокатка Бабы-яги»; Светлана Павлова представила свою «Сценаристку», вошедшую в шорт-лист премии «Лицей». Зрителям предлагалось оценить, чтò бы они хотели посмотреть, в специальной анкете.
И вот вроде всё хорошо: шаги друг другу навстречу сделаны: авторы заявляют, что хотят идти в театр, а театр готов принять их с практически распростертыми объятиями. Двери, которые не могли открыть в начале дискуссии, осторожно приоткрываются. Но из зала поднимается женщина-режиссёр и в своей яростной речи заявляет: «Вижу только вашу самопрезентацию. Проблема полностью надумана, мне неудобно искать ваши книги, я ищу пьесы. Хотите ставиться — ищите режиссёра, который вас поставит. Ваши новые темы неинтересны, нужно что-то вечное. Не отбирайте хлеб у драматургов!»
Только что найденные двери с грохотом захлопываются.
Какой можно сделать вывод, глядя со стороны? Театр не нуждается в современной литературе как в постоянном материале для постановок; авторы тоже в театре не особенно нуждаются: это может быть ощутимой финансовой поддержкой (если речь идет о федеральных театрах вроде Малого или БДТ), но чаще может и не быть — как в случае со студенческими театрами и маленькими антрепризами. Которые порой ставят спектакли по произведению автора, даже не связываясь с ним.
А вот чего хочет зритель: новых пьес или инсценировок — на дискуссии как-то не задумались…