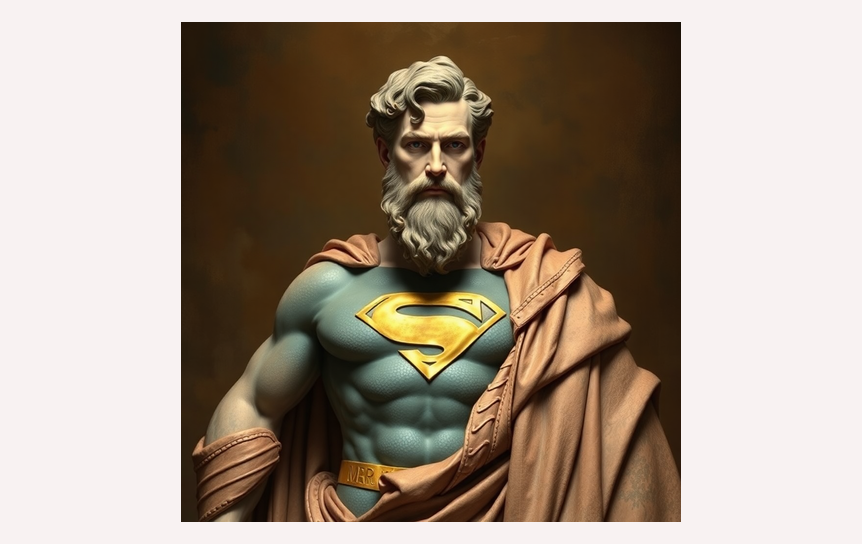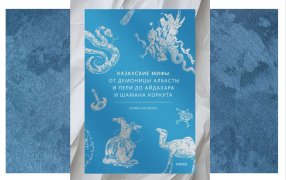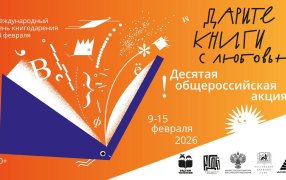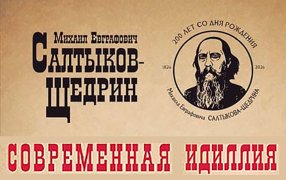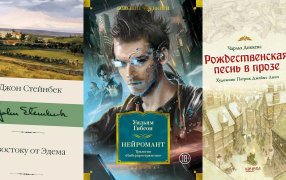Текст: Татьяна Шинтарь, социальный философ
Осмысленное отношение к миру — как космологическому, символическому и героическому — началось с античности, когда поэмы Гомера, вобравшие и переработавшие мифы прежних эпох, стали основой общего культурного языка. На нём мы говорим до сих пор. Гомера можно назвать культурным архитектором: его «Илиада» и «Одиссея» — своего рода первичная прошивка, в которую была записана модель героизма, трагедии, чести, памяти, судьбы — всего того, на что опирается и что отвергает современность. Эти истории стали языком, на котором «культура училась думать». И продолжает до сих пор, переосмысливая приключения Одиссея и других героев. Всё, что появлялось после — от Софокла до Спилберга, от Данте до Marvel — так или иначе продолжало этот диалог. Весь мир обитает в доме, фундамент которого заливали греки.
Сегодня мы живём в эпоху, насыщенную до отказа историями, но так или иначе ощущаем культурную пустоту. Может быть, Гомер уже рядом — просто мы не научились распознавать эпос в его новой цифровой форме.
Ещё философ Эрнст Кассирер в трёхтомной работе «Философия символических форм», выходившей на протяжении 1920-х гг., начал рассматривать миф как естественную системную форму человеческого познания мира. А философ Алексей Лосев ещё в 1930 г. в «Диалектике мифа» писал, что миф — это «сама реальность идеи, взятая в образной, чувственно-наглядной форме». То есть то, что человек считает реальностью и как осмысляет себя и своё место в мире. Но если раньше эту функцию выполняли устные сказания, затем рукописные и печатные тексты, то сегодня — цифровой нарратив. Мы живём в мире, насыщенном символами и историями: мемы, фандомы, супергерои, вайны — всё это элементы новой повествовательной структуры.
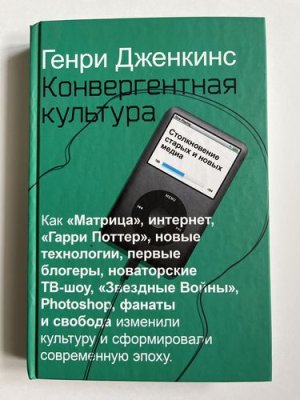
И если раньше похожие формы коллективного мышления возникали спонтанно и тысячелетиями передавались устно, то уже больше четверти века они всё чаще рождаются внутри цифровых сообществ. Именно на это указывает философ и культуролог Генри Дженкинс в книге 2006 г. «Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа», где он развивает идею о коллективном создании мифа в бесконечном пост-продакшене.
Современные элементы медиакультуры часто воспринимаются как развлечение или как способ «убить время». Но именно в этих форматах проявляются мифологические структуры — даже если мы не осознаём их сразу.
Некоторые современные исследователи рассматривают их как бессознательную попытку собрать фрагменты культуры в единый нарратив. Во вселенной комиксов Marvel и DC каждый герой так или иначе опирается на древнегреческий пантеон, переосмысленный последующими поколениями. Иногда даже слишком явно. Например, фильм «Вечные» 2021 г. рассказывает о расе бессмертных существ, которые тысячелетиями скрывались на Земле и защищали человечество, считавшее их богами и легендарными героями. Фина стала Афиной, Икарис — Икаром, Аяк — Аяксом и т.д. И этот сюжет близок к мысли древнегреческого философа Эвгемера о том, что богами считались те цари и воины, которые когда-то заслуженно прославились.
Самым очевидным примером «нового эпоса» можно считать «Звёздные войны» Джорджа Лукаса, основанные на схеме исследователя мифологии Джозефа Кэмпбелла. Этот «Путь героя» состоит из 12 этапов: существование в обычном мире, призыв к приключению, отказ от него, встреча с наставником, вступление в зону испытаний, встреча с союзниками и врагами, критический рубеж, величайшее испытание, награда, путь домой, воскрешение героя, возвращение с чем-то невероятным, что трансформирует и героя, и общество.
Этой схеме соответствуют и многие классические произведения русской литературы. Например, судьба Родиона Раскольникова или Евгения Базарова. Раскольников, переживая символическую смерть в Сибири, осознаёт бессмысленность насилия и силу гуманизма, а Базаров, будучи доктором, достигая пределов рационализма, умирает от тифа.
Сейчас «новый эпос» существует и в литературе, и в интернет-нарративе. Мемы, короткие видео в социальных сетях продолжают вечные темы «гомеровского мифа», но с учётом эпохи метамодерна. Один из примеров — мем «Я не вывожу», который используется в ситуации апатии, потери жизненных ориентиров, эмоционального выгорания и истощения. Герой мема находится в состоянии внутреннего кризиса, но он не сломлен. В эпосе Гомера подобный мем мог бы соответствовать Телемаху, живущему в хаосе беспомощности и неуверенности. Только благодаря помощи Афины он понимает, что сможет «вывезти». Продолжая тему, можно сказать, что отцу юноши, Одиссею, соответствует мем «Я устал, я мухожук» — герой, прошедший через бесчисленные испытания, больше не будет что-либо объяснять. Это Одиссей, прошедший Трою и все бедствия мира, а главное — переживший долгое возвращение домой.
Неосознанность — важная часть естественного распространения любого мифа. Одним из примеров мифологизации пространства и неосознанного обращения к произведениям Гомера может стать чрезвычайно популярный сериал 2023 г. «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанный на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». На первый взгляд это сравнение провокационное, но если «настроим оптику», то увидим много общего. Главные герои показаны как герои эпоса, у которых есть кодекс чести, подвиги, клятва, любовь. Всё повествование Гомера передаётся как сакральная память, а в сериале эту функцию выполняет голос за кадром — как аэд в древнегреческом эпосе. Сама Казань 90-х, где разворачивается сюжет, показана не документально, а так, как эмоционально ощущалась в определённой страте. Всё происходящее преподносится зрителю как нечто важное: каждый двор — крепость, судьба — кодекс, а самоидентичность — то, что надо сохранить любой ценой. И одна из причин популярности этого сериала у молодёжи — в том, что для них 90-е годы — та эпоха, которая приобретает нереальные черты: уже не сегодняшний мир, но и не «давным-давно». Да и время в сериале — не линейное, а сакральное, становящееся архетипической реальностью. 90-е как «эпоха становления».
Чтобы появилась новая «Илиада», мало просто отдельных историй — нужен тот, кто их соберёт, переосмыслит и даст структуру. Гомер не придумывал мифы — он переосмысливал, компилировал, редактировал, синтезировал. Мы живём в похожую эпоху: всё есть, но нет канона. Проблема не в отсутствии героев — их в избытке. Проблема в отсутствии мета-автора. Сегодня всё решает маркетинг, платформа, алгоритм, охват. Но за всем этим всё равно должен появиться тот, кто соберёт нарратив — даже если это будет нейросеть или коллективный разум миллионов незнакомых людей.
Если Гомер с ноутбуком и появится, он не будет писать гекзаметром. Он станет монтировать, курировать, собирать фанфики, редактировать, постить на видеоплатформах и в социальных сетях. Но задача останется прежней: объяснить, кто мы такие, откуда мы пришли, зачем и куда идём. Через Казань 90-х, мемы, битвы в Marvel — в эпос уже существующей цифровой эпохи.
Итака жива. Путь — в подписках.