Текст: Денис Краснов

23 января 1922 года Иван Бунин сделал в дневнике запись, содержавшую такие слова: «По ночам читаю биографию Толстого, долго не засыпаю. Эти часы тяжелы и жутки. Всё мысль: "А я вот пропадаю, ничего не делаю". И потом: "А зачем? Всё равно – смерть всех любимых и одиночество великое – и моя смерть!"».
Пятнадцать лет спустя, в 1937 году, автор этих тревожно бьющихся строк, уже увенчанный Нобелевской славой, издаст в Париже книгу «Освобождение Толстого». Могучая фигура яснополянского старца притягивала Бунина на протяжении всей его жизни. Он успел побывать в «толстовстве» и отшатнуться от него (но не от Толстого), торговал книгами издательства «Посредник», состоял в переписке с графом, не раз встречался с ним, часто перечитывал его труды и зорко всматривался в его противоречивую личность, пытаясь найти ответы на многие важные вопросы.
Если посмотреть на дневниковые записи Бунина того периода, когда он работал над «Освобождением Толстого», поражает состояние подавленности 65-летнего писателя:
«Живу не по годам. Надо опомниться. Иначе год, два – и старость» (23 апреля 1936).
«Нынче дождь. Безнадёжная тоска, грусть. Верно, пора сдаваться» (26 апреля 1936).
«Чудовищно провёл 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни» (9 мая 1936).
«Собственно, уже два года болен душевно, – душевно больной» (7 июня 1936).
«Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть не каждый шаг был глупостью, унижением! И всё время полное безделие, безволие – чудовищно бездарное существование! Опомниться, опомниться!» (16 августа 1936).
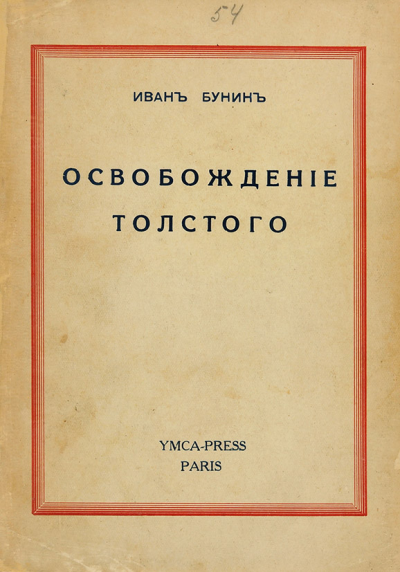
Творческий кризис, осложнение семейной обстановки, деловые проблемы с издателями – всё это крайне угнетало Бунина в первые годы после получения Нобелевской премии. Но особенно страшили надвигающаяся старость и её подельница-смерть, и обращение к Толстому могло восприниматься как поиск выхода для самого себя.
«В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обречённости, тленности всей плоти мира, – острота, с которой он был рождён и прожил всю жизнь» (Иван Бунин. «Освобождение Толстого»).
«Плоть мира» остро и «даже больно» ощущалась и самим Буниным («Я всё физически чувствую»), но заворожённость красотой мироздания («Всё мучает меня своей прелестью!») не позволяла примириться с неизбежным иссяканием земной жизни. Толстой же, этот будто бы «тайновидец плоти» (по выражению Дмитрия Мережковского), шёл дальше, прозревая торжество духа, сбросившего материальную оболочку: «Вся жизнь есть освобождение – сознательное и бессознательное – от похотей плоти, от плотской жизни. Смерть есть это полное освобождение».
Смешивая на одной палитре христианские и буддийские краски, Бунин изображает Толстого рядом с Сиддхартхой Гаутамой, Алексием Божьим человеком, Юлианом Милостивым, Франциском Ассизским – в ряду «благородных юношей, покинувших родину ради чужбины». Вот почему, по мнению философа Петра Бицилли, «Бунин дал не биографию Толстого, а легенду его – в подлинном смысле слова».
В ходе созидания своей «легенды» Бунин стремится развенчать другие, в том числе спровоцированные самим Толстым – например, о его якобы особо постыдных наклонностях и необразованности – и попутно спорит с Александром Амфитеатровым, Марком Алдановым, Василием Маклаковым.
При этом, как отмечает Владислав Ходасевич, Бунин в своей философской книге остаётся первоклассным художником, стремясь «вновь слить воедино, вновь представить Толстого той первозданной глыбой, какою он был. Понять Толстого – значит для Бунина не исследовать его, а созерцать во всей полноте и сложности, не анализировать, а отказаться от анализа, потому что проанализированный, расчленённый Толстой как бы вовсе уничтожается…»
В свою очередь, Георгий Адамович задаётся справедливым вопросом: в чём же, собственно, заключалось «освобождение» Толстого в трактовке Бунина? Не находя в книге ясности и стройности в развитии основной мысли, Адамович всё же признаёт её достоинства в сравнении с другими известными попытками подступиться к Толстому: «Мережковский и Горький , каждый по-своему, ломают Толстого, приспосабливают его к своему о нём представлению. У Бунина он проще, доступнее, "горестнее", и в этой простоте своей ещё величавее».
Два главных критика русского зарубежья сходятся на том, что едва ли не лучшие страницы книги составляют личные воспоминания Бунина о встречах с Толстым.
«По мощной простоте языка, по необыкновенной зоркости, наконец – по внутренней тёплой строгости эти страницы, прямо скажу, были бы достойны подписи самого Толстого. Во всей мемуарной литературе о Толстом, конечно, они не имеют себе равных», – утверждает Ходасевич.
Адамович словно подхватывает слова коллеги, с которым далеко не всегда соглашался: «Не знаю, есть ли в литературе о Толстом что-либо более значительное и как бы "душераздирательное", чем запись Бунина о последней встрече со Львом Николаевичем, – при всей внешней незамысловатости этих страниц».
Приведём и мы эти трогательные строки:
«Через несколько лет я видел его ещё раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шёл в Москве по Арбату – и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдёрнул шапку. Он сразу узнал меня:
– Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку… Ну, как, что, где вы и что с вами?
Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:
– Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания…»
(Иван Бунин. «Освобождение Толстого»).
Как знать, возможно, это воспоминание о морозной московской встрече особенно согревало Бунина, когда он слагал свою «легенду» о Толстом на Лазурном берегу Франции. Завершив «Освобождение Толстого» в 1937-м, Бунин, конечно, не ответил на все мучившие его вопросы, но в литературном плане всё же творчески «освободился». В последующие годы он напишет «Тёмные аллеи», которые назовёт своим лучшим творением.








