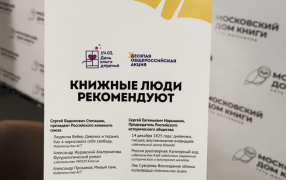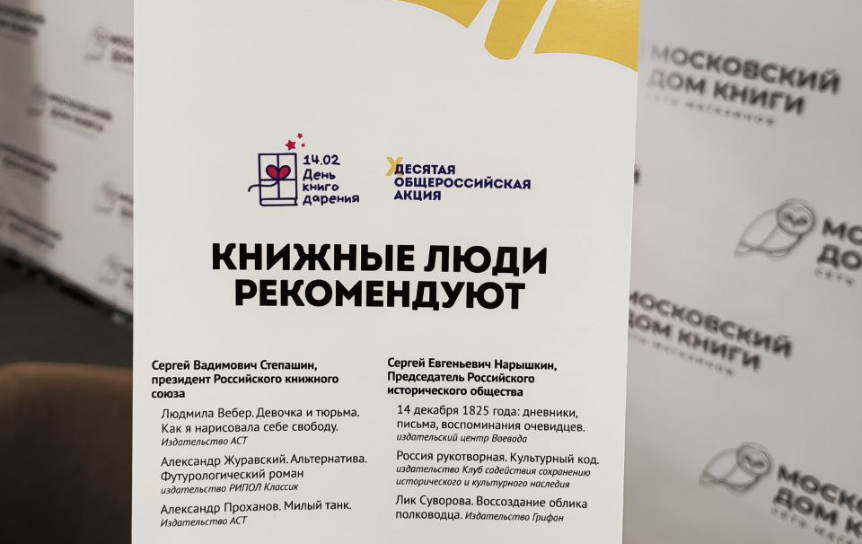Текст предоставлен "Издательством Ивана Лимбаха"
Фото: irl.by
Главный редактор издательства Ирина Кравцова объясняет: "После его [Чеслава Милоша] интеллектуальной биографии («Азбука») в феврале увидят свет его «оккупационные эссе» — «Легенды современности». Они действительно были написаны в оккупированной Варшаве в 1941–1943 гг., и в них Милош пытался ответить на вопрос, почему европейский дух потерпел столь ужасное фиаско. Эти эссе читались на тайных собраниях и широко обсуждались. Для Милоша они стали чем-то вроде аутотерапии, это было принятие на себя ответственности за то положение вещей, в котором оказались художники и интеллектуалы во времена фашизма. В очерках о «Робинзоне Крузо», о Стендале, о романе Л. Толстого «Война и мир» Милош старался отойти от мышления чисто политического: «Я считал, что следует издавать книги, а не газетки, которые очень сильно подогревали настроения, что в результате довело, например, до Варшавского восстания».
Чеслав Милош. Легенды современности: Оккупационные эссе. / Перевод с польского Анатолия Ройтмана (Издательство Ивана Лимбаха)
Существует нечто, что можно было бы назвать специфическим военным переживанием, — некий механизм, о котором можно рассуждать подобно тому, как рассуждают о любовном переживании или о механизме жестокости.
Но дать названия частям этого сложного механизма, — пожалуй, вещь в данный момент недоступная. Поэтому следует обратиться к помощи писателей, которые пытались рассмотреть если не такие же, то по крайней мере подобные ощущения. Мне приходит на ум «Война и мир» Толстого. В поиске аналогий (хотя полных аналогий быть не может) мы неоднократно останавливаемся на наполеоновских войнах. Можно сказать, невинные по сравнению с доктриной национал-социализма, для современников они должны были быть столь же сильным потрясением, особенно в их самых ожесточенных и самых кровавых формах — в Испании и в России. Два наиболее важных в европейской культуре документа о войне — рисунки Гойи и «Война и мир» — были даны нам испанцем и русским; если это и случайность, то, в любом случае, достаточно красноречивая. «Война и мир» появилась через несколько десятков лет после событий, составляющих тему книги, и уже являет собой полемику с наполеоновской легендой. Однако великая писательская интуиция Толстого сумела преодолеть дистанцию времени (а может, именно эта дистанция доставила необходимые средства) и дать проницательный анализ явления, о котором идет речь. Хорошие книги живут достаточно богатой и сложной жизнью, чтобы каждое поколение могло обнаружить в них свою собственную актуальность. Так и роман русского писателя содержит фрагменты, которые приобретают совершенно новое выражение для участников дьявольского зрелища. Поэтому стоит призвать их в качестве свидетельства и, используя как повод, стремиться хоть чуть-чуть продвинуть наше самосознание.
В войне 1812 года существуют, хотя еще очень легкие, акценты тотальной войны. Пылающая Москва и вереницы повозок на охваченных паникой дорогах близки сегодняшнему пониманию. Война, увиденная со стороны ее гражданского участника, — вот что верней всего приближает к нам некоторые главы толстовской эпопеи, а история Пьера Безухова в критические для России дни представляет собой исследование военного переживания, достойное пера самого умного философа.
Пьер находился в состоянии «возбуждения, граничащего с безумием». Им овладело чувство неясного, но сильно ощущаемого долга, необходимость любой ценой принять деятельное участие происходящем. По причине этого безумия он утрачивает способность реальной оценки событий, пребывает в мире, больше похожем на галлюцинацию, чем на явь. Функции рассудка полностью заторможены. Вопреки инстинкту самосохранения, который, скорее, повелевал бы бежать вместе со всей зажиточной Москвой, к которой Пьер, как аристократ, принадлежит — он плывет против течения и остается. Туманный и непонятный ему самому императив кристаллизуется в странное решение: Пьер решает заколоть кинжалом Наполеона как виновника всех несчастий отечества. В подлинность такого решения он сам не совсем верит. Все происходит, как мы бы сегодня сказали, в подсознании. Существенные мотивы, по которым он остается, ему неизвестны — но таящаяся где-то глубоко солидарность с судьбами всего народа и жажда жертвы (не без растроганности собственной предполагаемой смертью) должны иметь какую-то точку опоры вовне — в сознательной части его «я». Поэтому он воспроизводит такую точку опоры, как пчела, строящая большую ячейку для королевы-матки, подчиняясь таинственному инстинкту.
Намерение убить Наполеона фантастично и нереально, но оно дает ему основания для пребывания в Москве — по крайней мере, в первые минуты, ибо позднее оно незаметно рассеивается: мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Вот первый этап переживания войны, эмоциональный фон: нарушение равновесия между сознательной и бессознательной частью человеческого существа и подчинение, более чем когда-либо, инстинктам, которых человек познающий не может назвать, а если называет, то довольно грубо их фальсифицируя. Инстинкты эти не обязательно должны быть самыми низкими и чисто биологическими — они могут отличаться прекрасным моральным блеском, но превышают способность понимания личности, принадлежат к сфере великих коллективных восторгов, которые зачастую выражаются в убогих словах либо в совершенно бесполезных, с точки зрения здравого рассудка, действиях. Любой, кто припомнит осень 1939 года и мечущихся людей — из которых одни стремились на восток, другие на запад, когда для одних оказаться в месте, откуда отправлялись другие, было целью, достигаемой путем наибольших жертв, — согласится, что владеть ими должны были какие-то мощные силы, возникшие на пересечении личных навыков и склонностей с так или иначе ощущаемой солидарностью (быть вместе: с семьей, с родным городом, с армией, с партией, со своим окружением — решения множились, и в зависимости от того, что побеждало, личности выбирали то или иное направление). Несомненно, частицы эти имели какие-то свои доводы и передавали словами эти доводы подобным себе частицам. Но доводы эти были преимущественно мнимыми и люди, обосновывая свое поведение, говоря: так и так поступить лучше, ибо… приводили после этого «ибо» довод ничтожный в сравнении с огромностью стихии, которая перекатывалась через них.
Таким образом, первый слой, возможно, определяет большая, чем в мирные времена, зависимость от скрытого тока, пробегающего по телу общества, — благодаря чему даже самый темный человек становится деятельным участником процессов, намного превышающих его понимание; интеллигентность тут мало что дает — именно «возбуждение, граничащее с безумием» является здесь состоянием интеллектуального разоружения, оно рождается из ощущения интеллектуальной беззащитности по отношению к внутренней необходимости (идти, делать, выполнять приказы, быть в толпе и так далее). Затем появляются новые элементы: созерцание человеческой жестокости и личная нищета — нищета в библейском значении этого слова — смерть близких, голод, унижение.
Пьер Безухов, схваченный французскими солдатами, преданный суду и доставленный на место казни, видит, как расстреливают «для примера» его товарищей, наугад вырванных из московской толпы. Все подробности экзекуции предстают перед ним с предельной ясностью: бессознательные взгляды осужденных, которые до конца не верят, что это произойдет; нервность и беспокойство расстреливающих солдат; торопливое закапывание еще шевелящихся и дергающихся тел. «Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления». Под влиянием этого зрелища происходит в Пьере — не в его сознании, но в тех глубочайших, растревоженных войной залежах, — внезапная ломка, внезапный выход за пределы круга, в котором мы пребываем, когда живем в традиции нагроможденных в течение столетий убеждений. «С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога». Другой слой переживания войны: его можно назвать утратой веры в цивилизацию. Живя в кругу накопленных трудом поколений ценностей — чему способствовали усилия святых, мыслителей, художников, — человек находится в определенных рамках, его мысли и чувства трансформируются в определенный ритуал. От слов молитвы, которым его учит мать, через чтение книг и учебу в школе, до опыта общественной жизни — он черпает из сокровищницы гуманистических иерархий; не ведая об этом, усваивает оценки; собственное существование и существование человечества понимает как борьбу за все более совершенные цели. Он чувствует, что человек является не только животным, но чем-то бoльшим. Его нравственное чувство находит опору в обычаях, в законе, в религиозных заповедях, в обиходном языке знаков и воззваний сограждан. Момент разрыва этой хрупкой поверхности и созерцание дна человеческой натуры — критический момент для него. Рушится всё. Всё кажется искусственным и ничтожным при сопоставлении с элементарными фактами: жестокость людей, по своим последствиям такая же, как жестокость природы; легкость, с которой в одну секунду чувствующее и мыслящее существо превращается в мертвый предмет. Отношение к существам, каждое из которых (как он верил) представляет собой отдельную личность, как к игрушкам, которые можно сломать, переставить с места на место, искалечить. В такой момент все возможные аспекты рассмотрения человека исчезают — остается только один: биологический. Остальное представляется несущественной надстройкой.
Этот переломный пункт должен быть гораздо более четким в великой войне XX века, как-никак наполеоновские войны были столкновением сил в рамках цивилизации, ни одна из сторон не выступала с программой стащить человека с пьедестала и не ставила под сомнение его утвержденного веками достоинства. Там, где личность, переживающая указанный переломный пункт, должна вынести не только само зрелище озверения, но и влияние доктрины, оправдывающей и восхваляющей голую звериность, — возможностей провала намного больше. На душу, придавленную картиной, которую увидел Пьер Безухов, тяжестью падают слова пропаганды, в основании которых лежит преклонение перед абсолютным насилием и — вопреки накопленным достижениям западной культуры — обожание человека «естественного», не сформированного ни Евангелием, ни ритуалами, ни обычаями доброжелательного сосуществования согласно ius gentium. Слова эти могут оказывать сильное воздействие и оставлять прочные следы в неосознанной, но важной для поведения сфере, в которой рождаются рефлексы мысли и действия.
Какими могут быть последствия этой внезапной утраты веры? Не выразятся ли они в изменении коллективного духа, не бросят ли тень на поведение общества? Пьер Безухов впадает в отупение, в полную подавленность — и это одно из возможных последствий: своего рода сон и безразличие по отношению к окружающим событиям, внутренний паралич, — что, собственно, является состоянием, добиться которого и стремятся преследователи, — этого им достаточно. Другим возможным состоянием — у личностей более подвижных и хитрых — будет остановка на этом уровне внутреннего оцепенения и развитие направленной вовне совершенно циничной деятельности. В уничтожении системы ценностей они находят оправдание для самых никчемных поступков: раз ничего прочного не существует, раз жизнь — не что иное, как бессмысленный клубок каких-то взаимно пожирающих друг друга червей, — значит, всё дозволено, будем спасаться сами. Таким образом, они идут по пути тайных и явных преступников, множество которых плодит любое сообщество, — но в исключительные периоды их рождается больше, чем когда-либо, потому что внутренние тормоза перестают действовать.
Однако упомянутые виды последствий кажутся недостаточно общими, чтобы надлежало опасаться их слияния в большую волну, поглощающую мирные формы бытования общества. Более грозными являются последствия, в большей степени согласующиеся с требованиями человеческой природы и потому случающиеся гораздо чаще. Врожденное желание нравственного порядка, стремление к установлению какой-нибудь иерархии — лишь бы была — могут подтолкнуть к тому, чтобы устроиться в руинах нравственного мира, в руинах веры, — а имя этому устройству деформация ценностей. Усомнившись в наследстве, которое оставили проповедники и пророки, призывавшие к борьбе за царство Божие на земле, люди должны разрядить свой энтузиазм, свое пристрастие к благородным и жертвенным действиям, и потому они лихорадочно ищут вокруг себя что-то, что можно было бы обожествить и приукрасить. В этом они подобны архитекторам, которые в качестве образца брали бы руины, признавая их прекраснейшими творениями зодчества и не ведая, что где-то существуют подлинно прекрасные и неповрежденные памятники искусства. Эту потребность превосходно понял национал-социализм: явившись в эпоху, когда военный опыт выжег душу миллионов, он, используя охватившее Германию сильное течение, представлявшее усомнившихся в цивилизации, на место свергнутых богов поставил новое божество: собственное племя, придавая ему черты божественности и наделяя его достоинствами правды, красоты и добра. Нет правды, нет красоты, нет добра — абсолютных, но зато есть германская правда, германская красота и германское добро: так этот пробел был заполнен, а в пределах нового канона нашлось место геройству, самопожертвованию, дружбе и так далее.
Как же поведет себя представитель покоренной Европы, если ему выпадет познать духовное поражение? Утратив веру в призвание (которой он жил, правда, довольно фальшиво, в XIX веке), видя горизонт, замкнутый пейзажем руин, — он может не решиться на усилие, чтобы выйти из заклятого круга и согласиться на устройство своего хозяйства по мерке пепелищ и развалин. Тогда, питая ненависть к врагу и ища чего-то, что мог бы ему противопоставить, он пойдет по его следам и противопоставит ему идеал противоположный, но такого же масштаба: вражескому племени противопоставит собственное племя и будет его обожествлять, признавая его благополучие и силу в качестве наивысших критериев деятельности. Человек, человечество — эти понятия вызывают в нем лишь негативный рефлекс и раз и навсегда будут ассоциироваться с неприятными воспоминаниями — как бессилие какой-нибудь Лиги Наций или фарисейство демократии. Такая позиция, творящая из собственного отечества алтарь, на котором сгорает личность, — позволит ему выгрузить весь запас благородства и героизма, тем более что пока длится угнетение, алтарь этот в то же время является алтарем страдающего человечества. Однако победа должна принести раздвоение и поставить вопрос о преобладающем значении и первенстве целей. Если бы такая атмосфера стала повсеместной, континенту вскоре грозила бы новая опасность, проистекающая из экзальтации по поводу своего, доморощенного, к чему склонны народы, которые много перестрадали.
Приведенные рассуждения я вывел, исходя из переживания войны, но было бы ошибкой утверждать, что только оно является мотором этих перемен, имеющих причины намного более сложные. Тем не менее, переживание войны содержит в себе как бы вкратце историю последних десятилетий, обогащается накопленным материалом, сильнее, чем другое, преобразует людей — и касается даже наименее впечатлительных. Идем дальше. Исчерпывает ли утрата веры весь круг явления? Нет. Толстой велит своему герою утратить веру и вновь выстроить ее. Пьер Безухов опускается на самое дно нищеты в лагере военнопленных — и именно там, среди полной примитивности, беспросветной жизни и смерти, захватывающей последовательно его сокамерников, — переживает великое преображение, выходит оттуда примиренным с миром и внутренне свободным. Это происходит благодаря прикосновению к судьбе человека во всей ее простоте, быстротечности и боли. Можно сказать, что его спасло присутствие соседа из берлоги — простого мужика Платона Каратаева: само его ровное дыхание ночью, его спокойное смирение, его полное согласие на всё, что принесёт следующий день — для Безухова это новый опыт, которому трудно найти название; может, он называется просто любовью к ближнему. Ступая босыми, сбитыми до крови ногами по выбоинам мерзлых российских дорог, Пьер обнаруживает, что человек — не только вместилище зла, что он поистине добр, что земля и жизнь добры, а зло не должно заслонять от нас великую и мудрую гармонию бытия. И даже человеческие слабость и подлость не замутняют этой гармонии, а входят как необходимое слагаемое в какой-то окончательный счет. Толстой не колеблется описать поведение Пьера во время расстрела Каратаева, который слишком слаб, чтобы идти за конвоем. «Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать».
Является ли решение, представленное Толстым, единственным? Можно ли, усомнившись в человеке, обрести веру только отрекаясь от всего, чем дарят сытость, социальное расслоение и использование материальных выгод? Можно ли принять цивилизацию только тогда, когда она пройдет боевое крещение суровостью и простотой, принуждая людей к укреплению между ними уз, возникающих «в страдании, в невинности страданья»? Такое решение — очень русское, и оно издавна повторяется в России в разных вариациях. Парадокс в том, что Европа, защищаясь от его принятия, была силой принуждена сойти в чистилище примитивности и убожества. Ее традиция не опирается, однако, на евангельское христианство, по ней не блуждали «старцы», бросающие семьи и нажитое состояние, чтобы «обрести спасение» в девственных лесах над Обью или Печорой. Ее монастыри были действующими, полными жизни, занятыми делами хозяйствования, политики и образования. Может, поэтому Европа так неохотно отрекается, предпочитая трактовать свое унижение как временное попустительство, отнюдь не представляя свое будущее по сдержанному и суровому образцу. Многим ее гражданам, наверное, дано познать то, что познал Пьер Безухов: пожатие руки, слово товарища по тюремной камере преодолевают отчуждение и враждебность, вновь возвышают человека, а «прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигается в его душе».
Традиция, с удвоенной силой заявляющая о себе тогда, в этот период возвращения к здоровью, навязывает свои формулы, свой язык. Демонические элементы человеческой природы повсеместно принимались во внимание в западном христианстве. С момента, когда личность вырывалась из-под опеки Церкви и доверялась своим силам — от нее можно было ожидать всего, и наибольшее зверство было в глазах католика понятным следствием врожденной ущербности. Поэтому человек, продолжающий традиции западного христианства, лучше подготовлен к выходу из неверия, которое ему навязывает подлость. Кризис его проходит не так остро, быстрей и эффективней действуют противоядия. Невзирая на дно, которое не раз ему открывается, он сопротивляется, чтобы сохранить надежду, и всё еще ожидает братства людей — держа в подчинении это дно и не давая воли биологическим инстинктам.