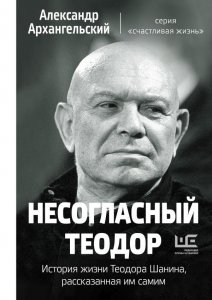Текст: Андрей Васянин
Фото обложки с сайта издательства
Теодор Шанин родился в 30-м в предвоенном Вильно в еврейской семье. В начале войны, сосланный в Сибирь с матерью, вместо Сибири оказался в Самарканде. Школу закончил в послевоенной Польше, потом, 18-летним - убежал добровольцем в Палестину, воевать за нарождающийся Израиль. Иерусалимский университет. Докторскую о политическом сознании русского крестьянства защищал в Бирмингемском университете. Участвовал в студенческих бунтах в Великобритании. Основатель и декан факультета социологии, Манчестерский университет. В середине 90-х в Москве создал, вопреки безденежью и хаосу, Московскую высшую школу социальных и экономических наук, сегодня - один из передовых российских вузов...
И вот эту легендарную жизнь представил в вышедшей в конце прошлого года книге «Несогласный Теодор: История жизни Теодора Шанина, рассказанная им самим» литературный критик и писатель Александр Архангельский. Из многочасового интервью с Шаниным у него получился небольшой биографический роман, где Шанин выступает в главной роли, то есть в роли самого себя - человека, прожившего ХХ век как один день и начавшего вместе с нами век XXI.
Александр Архангельский «Несогласный Теодор: История жизни Теодора Шанина, рассказанная им самим»
— Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020
***
Дед был Яшуньский. Мать — Яшуньска. Отец — Зайдшнур. Почему же я — Шанин? Самое простое объяснение заключается вот в чем. Никто, кроме поляков, не мог правильно произнести или написать мою фамилию - Зайдшнур. Что мешало. Особенно трудно стало, когда я приехал в Англию изучать работу разных социальных министерств Великобритании. И ежедневно меня встречал у такси молодой человек, младший чиновник, и пытался выговорить мою фамилию. Причем глядя в бумажку. Сбивался не меньше трех раз кряду, просил его извинить и подсказать, как это звучит. Я произносил: “Зайдшнур”, он почтительно открывал дверь и говорил: “Прошу, господин…” После чего запинался, краснел и всякий раз выборматывал непонятное.
Я злился, но не мог ничего изменить, потому что отец очень гордился своей семьей, своей фамильной историей. И лишь когда он ушел к праотцам, я решил, что, вот, настало время. Нашел знакомого, который работал в Академии языка иврит. И сказал: “Вот, видишь, я ума не приложу, как себя назвать”. Его предложение — Шани. Почему Шани? Потому что шани — это “пурпур”. Пурпурный цвет на иврите. И это как-то связывалось, на его взгляд, с фамилией, в которой был шелк и шнурок. На что я возразил: “Мы не украинцы. И у нас ничего на -и не может кончаться”.
Я начал добавлять по одной букве в конце для проверки. Шанис, Шанир, Шанин, Шанинов. В конечном итоге Шанин прозвучало прилично. Я открыл телефонную книгу Тель-Авива, посмотрел: никаких Шаниных. Потому что новых родственников я не хотел. И написал письмо в Министерство внутренних дел, что, вот, прошу изменить мою фамилию на Шанин. И стал Теодором Шаниным.
***
Эшелон, в котором ехали высланные, соединил несоединимых людей. Здесь были польские чиновники, еврейские купцы и ремесленники — в жизни они пересекались друг с другом редко или же никогда. У них даже языки были разные, но в эшелоне все говорили по-польски. Отношения в этом странном коллективе были очень хорошими. Говорили про войну, про семьи, которые остались где-то вдалеке, и особенно много говорили про Вильно.
Еще несколько вещей остались в памяти с тех дней. Во-первых, монотонный выкрик: “Один человек — два ведра, один человек — два ведра, один человек — два ведра”. Это была наша стража. Когда приходило время кормежки, они шагали вдоль эшелона, выкрикивая: “Один человек — два ведра”. Из вагона выскакивал кто-то из мужчин с ведрами, и нам выдавали еду. Каша и суп — ужин. Каша и чай — завтрак и обед.
Вторая вещь, которую я навсегда запомнил, — это, знаешь, как мгновенный снимок со вспышкой. Поезд очень медленно проходил мимо совершенно пустой станции. Висела единственная лампа, которая качалась на ветру, и стояла женщина. В тяжелом таком кожухе, который у нас крестьяне носили. Вагоны словно дефилировали перед ней.
И она крестила вагон за вагоном. Ясно, что она знала, куда нас везут. И ясно, она делала то единственное, что можно было для нас сделать. Спасибо ей.
***
К нам прибыл чин НКВД и объявил, что нас освобождают. От нас требовалась только одна вещь: сказать, куда мы хотим ехать. Нам не разрешалось ехать в города первой категории, то есть в столицы союзных республик. Во всем остальном мы свободны в своем выборе. При этом он нам советует выбрать место подальше от фронта.
Мы все, спецпереселенцы Большой Шелковки, собрались обсудить, что делать. И раскололись в выборе — по этнической границе. Этнические поляки решили, что останутся на месте, потому что неизвестно, что может ждать вдалеке, да и холода приближаются. Евреи решили ехать на юг, поближе к теплу. Но куда именно? Меня отправили найти учебник географии для пятого класса.
Я нашел его у друга Стасика, который был сыном колхозного бухгалтера. Притащил эту книгу, и мы сели ее читать. После длинных разговоров и размышлений решили выбрать Самарканд. Почему Самарканд? Потому что была книга Александра Неверова, переведенная на польский, — “Ташкент — город хлебный”. В Ташкент нам не разрешалось, потому что он был столицей, но вторым по величине городом Узбекистана был Самарканд. Тоже, наверное, хлебный город.
…Ехали медленно, дней пять. В Чимкенте подошли к нашему вагону двое виленских евреев, ранее приехавших в эти края. Спросили, не прихватим ли мы их до Самарканда. Мы согласились, и под стук колес пошел такой типично виленский разговор: кто вы, кто был ваш отец, дед, с кем учились. Они распознали мою маму по фамилии, хотя не знали ее лично. “Вы бывшая Яшуньская? Ну, конечно, ну, конечно. С Рудницкой улицы, не так ли? Да-да-да”.
И перед высадкой в Самарканде эти двое предупредили: “У нас тут есть также виленчане, мы пришлем к вам некоторых, они вас знают”. Через несколько часов появилась семья Сидлиных, которых я помнил с детства. Они предложили: “Давайте к нам, мы живем в нескольких километрах, сможете у нас переночевать”. Ну, мы прожили у них на полу несколько дней. Нам объяснили, что для таких, как мы, работы нет, многие живут тем, что продают вещи или занимаются нелегальной продажей хлеба. Этим занимались и они.
А если ты спекулируешь хлебом, тебе нужен тот, кто не пойдет в милицию; доверенность приходит от одного к другому.
Они ввели нас в сеть “занимающихся хлебом”. Трое бывших спецпереселенцев, прибывших за три месяца перед нами, стали директорами трех магазинов хлеба, который выдавался только по карточкам. Ты предъявлял карточку, продавцы срезали часть ее — ту, где были напечатаны даты. И регулярно появлялась комиссия, которая проверяла соотношение между полученным хлебом и предъявленными карточками. Квадратики с датами должны были сжигаться. Но только они, конечно, не сжигались. Их продавали в следующее место, которое отчитывалось ими перед другой комиссией. Оставался вопрос, как выносить краденый хлеб. Это было центральным звеном всей операции. Этим звеном стали мы: моя мама и я.
Ты входил в магазин, с прихлопом клал карточку на стол и говорил: “Мне за предыдущие четыре дня и за два вперед — столько и столько хлеба”.
Продавец делал движение, как будто вырезал квадратики с датами. Он возвращал карточки, отдавал нам хлеб, и мы выходили. Каждый из нас отдельно. Я шел прямо в парк, который начинался в двух шагах от хлебного магазина. Там появлялся мужчина, который шагал параллельно со мной, и в какой-то момент я оказывался без хлеба, а он с хлебом.
Для существовавших в городе условий, в которых многие сильно голодали, мы жили сравнительно хорошо. Но были все же полуголодными — в том смысле, что другой еды, кроме хлеба, почти что не было, даже за деньги нельзя было купить много. Но хлеб-то был.
***
Я очень много читал. Мне было двенадцать, когда я стал собирать библиотеку. Мама давала мне некоторую сумму денег, чтоб купить лепешек. Но я никогда этих лепешек не ел, вкуса их не знаю. Я покупал книги — с рук. И в основном те, которые никто не хотел покупать, потому что они слишком умные. Одна из этих книг, академика Опарина, рассказывала о происхождении жизни на Земле. Я ее прочел три раза, досконально, перескакивая через химические формулы, потому что не знал, как с ними разобраться. Но и без этого я вполне освоил, что там со Вселенной произошло. И тогда же я сказал маме (помню, что я задирал еще голову, поскольку был мал ростом): “Знаешь, мама, я принял решение, что придется выбирать между наукой и религией”. (Хотя я еще молился тогда, как дед научил.)
Ее это рассмешило. Отсмеявшись, она спросила: “Ну что, каково твое окончательное заключение?” Я ответил: “По-видимому, приходится выбирать науку”.
В Самарканде мне пришлось расстаться со своей библиотекой. Я, как было сказано, экономил деньги на лепешках и покупал книги у женщин, которые сидели в Самарканде вдоль домов и продавали ненужные вещи — вещи погибших.
Когда мы собрались к отцу, мама впервые увидела, сколько у меня книг, и не могла понять, откуда они взялись. И объявила, что хотя я и хороший мальчик и книги — это замечательно, но библиотека весит больше, чем все наши вещи, вместе взятые. Отдать ее было некому, и я ее уничтожил, сжег.
Позже, в Польше, мама извинилась передо мной. Она поняла, что моя библиотека даже с точки зрения денежной стоила гораздо дороже остальных вещей. Даже чем все наши вещи, вместе взятые. И признала, что ея решение было первоклассной глупостью. Но, так или иначе, это была первая потерянная мной библиотека. Вторую я потерял, когда уходил из Польши во Францию. Третью — когда сдвинулся из Израиля в Англию. Правда, было уже кому книги раздавать.
***
По бирманской дороге мы доехали до арабского села, из которого были уже выбиты арабские части — население бежало. Часть нашего батальона отправилась брать деревушку Суба, расположенную недалеко вдоль дороги к Иерусалиму. Мой взвод остался защищать дорогу. Мы слышали, как наши ребята воюют. Лежали в окопах и злились, потому что нам хотелось тоже в бой, хотя прекрасно понимали, что дорогу надо защищать. Командир объяснил нам это наглядно. Он отчеркнул ботинком место в десяти шагах за нашими окопами и сказал: “Последняя линия отступления здесь. Здесь умирайте”. На четвертый день наши взводы, ушедшие к Субе, вернулись. Село было взято. Теперь пришла наша очередь атаковать. Нашей задачей было взять арабское село Ялу. Первая рота двинулась вперед, моя вторая осталась, чтобы двинуться вперед после того, как они войдут в Ялу. Окопались, залегли. Была совершенно необыкновенная ночь, потому что нас обстреливали фосфорными пулями. И ты видишь, как они летят. Казалось, что над тобой кружится рой светящихся пчел. И нескончаемое количество ракет разного цвета, а на земле беспрестанно движутся разноцветные тени от них. Я лежал в окопе с еще одним парнем, Йохаем. И сказал: “Как красиво!”
Он внимательно посмотрел мне в лицо, решив, что, быть может, я начинаю биться в истерике. Нас могут в любую секунду убить, а я вдруг решил поговорить о красоте. Я ему спокойно улыбнулся, потому что причина была в одном: это действительно очень красиво. Часа через два-три по рации поступает приказ: “Немедленно вперед! Первая рота в беде”. Когда мы добежали до них, увидели отступление. У них было много раненых. И рота была не способна более к бою. Оказалось, наша разведка сплоховала. Во время перемирия арабы построили новую обходную дорогу, и по ней в горы поднялись броневики Легиона. Первую роту возле Ялу встретили пулеметным огнем, и одним из первых пулю в лоб получил радист. Темень, скалы. Он упал где-то, рацию долго не могли найти, чтобы сообщить о беде. Моя вторая рота начала отступать — медленно, потому что пропускали вперед раненых. Кончилась ночь, и началась зверская жара. Хамсин. Мы передали воду раненым, а сами начали чуть ли не падать в обморок. К счастью, молодость помогала. Мне было еще семнадцать, средний возраст бойцов — меньше двадцати. В конечном итоге мы добрались до шоссе, где стояли уже машины с водой.
Я тогда получил определенную лекцию в жизни. Потому что ухватился за ушат воды и пил его, обливая себя, но вдруг услышал голосок такой, чиновный: «Не надо пить так много, когда ты вспотел». Я взглянул на говорящего; такой чиновный молодой человек, в очень чистой одежде, а можно себе представить, как выглядели мы после такого боя.
Я реагировать не стал, продолжал пить.
И он начал орать: «Им говорят, что не надо пить слишком много, а они как об стену горох, даже не отвечают! Невежливо!»
Тогда уж я оторвался от своей воды и покрыл его русским матом, по-настоящему бандитским, выученным мною со времен Самарканда. Который он не понимал, конечно. Но отшатнулся и исчез с моих глаз.
***
На мои лекции ходило куда больше людей, чем было записано, темы были интересные. Но главное — общественная жизнь. В 1968-м я на два года перебрался в Бирмингем, потому что у них ушли все социологи, и они попросили Шеффилд меня одолжить. В то время там началась студенческая забастовка, которую стоит описать. Новый ректор, медик из Шотландии (медики у нас были часто консерваторами), отказал студентам, попросившим студенческого представительства на заседаниях сената. В течение следующих двадцати минут он получил сидячую забастовку, то есть студенты оставались в кампусе. И вызвал полицию, чтобы убрать бастующих из кампуса. На что полиция ответила, что это не их дело. Английская полиция не занимается тем, что выбрасывает студентов из университета. (Что было полностью противоположно ситуации в Америке, где полиция ворвалась в Колумбийский университет и избила как студентов, так и преподавателей, которые встали стеной, чтобы защитить своих студентов.) Студенты засели в университете. А мы, преподаватели, примерно сорок человек с разных факультетов, создали комитет защиты студентов. Чтобы, если полиция передумает, встать меж студентами и полицией. Для верности дела я остался ночевать в своей университетской комнате. В полночь я пошел смотреть, что происходит в главном здании университета. Пикеты удерживали двери, но меня пустили. Там лежало на полу человек четыреста; громкоговоритель, предназначенный для трансляции церемоний, играл “Интернационал”. И четыре девчонки, две пары, танцевали твист под “Интернационал”. Для меня 1968 год — это, в главном, те девчонки, танцующие твист под “Интернационал”. Столько в этом было легкости, хорошего настроения и дружелюбных отношений… На следующий день, после жестких переговоров, ректор отменил запрет на участие студентов в заседаниях сената. И поблагодарил всех за то, что они вели себя так цивилизованно. Потому что, покидая помещение, студенты вымыли окна и полы. И только после этого передали ключ представителю университетских властей.
Но в целом по стране ситуация оставалась напряженной. Воскресные демонстрации проходили каждую неделю; в них участвовал и я. Однажды член французского парламента, правый, заявил: “Нам не будут указывать, как жить, немецкие евреи”, намекая на происхождение лидера студенчества Сорбонны Кон-Бендита. Назавтра студенты Сорбонны маршировали по улицам Парижа, скандируя: “Мы все немецкие евреи, мы все немецкие евреи”. И мы в Лондоне устроили марш солидарности. Наши студенты начали скандировать: “Мы все немецкие евреи!” Вдруг вспомнили, что я иду в первых рядах, и уточнили лозунг: “Мы все немецкие евреи, кроме Теодора!” Шестьдесят восьмой был приятен тем, что много шутили. Это не была борьба с кровью на асфальте. Это была веселая борьба. Кроме, может быть, Италии, где было создано практически партизанское движение. Что было результатом 1968-го? Изменение общей атмосферы произошло, но законодательства практически не изменились. В университетах большинство требований студентов были приняты. Общество в целом стало менее формальным, что было особенно заметно в Англии. Я галстука не надевал и раньше, но этим выделялся. Помню, я услышал, как моя секретарша объясняет кому-то, как меня узнать: “Он будет единственным человеком без галстука”. Сегодня вид профессора без галстука лишь подтверждает, что он и впрямь профессор.
***
Одна из учениц Мераба Мамардашвили, которая училась в школе режиссеров в Москве (Высшие курсы сценаристов и режиссеров. — А.А.), вдруг сказала: “Знаете, у меня есть преподаватель, который очень схож с вами”. Это меня заинтриговало.
Она привела меня в университет, украдкой. Я спрятался в угол подальше. Вошел лектор. Как только он открыл рот, с первой фразы, стало интересно. Он сформулировал мысль, которую я навсегда запомнил: “Конечно, есть социальные классы. Но классы не борются. Борются люди”.
Мамардашвили выбросили с работы в конце того года. Но: классы не борются, борются люди! Феноменология посреди брежневской Москвы. В конце я подошел, мы пожали друг другу руки и стали встречаться, когда я приезжал, — и общались до самой его смерти. Он мне очень полюбился. Я ему, по-видимому, тоже понравился. Кстати, именно он отправил меня к Пятигорскому, который принял меня сразу открыто как друга Мераба.
Но тесного союза у нас не случилось, несмотря на всю взаимную доброжелательность и на то, что он потом уехал в Англию, где мы изредка пересекались; его форма философии мне далека, а Мераба — близка. С Лотманом я познакомился гораздо позже, уже во время перестройки.
Меня разозлило, что про Россию теперь пишут те же американцы, которые в свое время каждому объяснили досконально, почему никаких изменений в Советском Союзе быть не может. А теперь они вновь появились и начали объяснять, что всегда это знали. Ну что за черт, ей-богу!
Рассказали мне про Льва Гумилева, которого я тогда еще не читал. Написал ему в Ленинград, быстро получил согласие увидеться, поехал к нему в географический институт. Кажется, он назывался “Научно-исследовательский институт при геофаке ЛГУ”. Гумилев с ходу позвал секретаршу; она сидела, ничего не делала, через какое-то время взмолилась: “Отпустите, мне надо продолжать перепечатывать отчеты!” Гумилев ответил: “Хорошо Манечка”. И позвал другую секретаршу, чтобы всегда был свидетель, что он ничего не сказал, ничего не услышал. Лишь позже, поняв, что я свой, что понимаю ситуацию, не проговорюсь и не подставлю его по глупости, он изменил линию поведения. Мы стали видеться наедине.
Бывая в России, я еще несколько раз к нему ездил. Однажды сказал: “Мне было бы интересно послушать вашу лекцию. Сколько у вас студентов?” Нормальный такой вопрос меж профессоров. Он мне на это ответил: “Тридцать”. И улыбнулся иронично. Чего смешного в том, что у него тридцать студентов, — тогда я не понял. Но когда вошел в зал, увидел минимум двести человек. Весь интеллектуальный Ленинград ходил на его выступления. Лекция и впрямь была блестящая. И оригинальная до чертиков. Частично фантастическая, несомненно. То, что я не соглашался с его тезисами, не дало мне постоянных отношений с ним: он любил людей, которые с ним соглашались. Но я очень многому научился, поскольку, чтоб не соглашаться с ним, пришлось заняться проблематикой центральноазиатской культуры. Он, несомненно, был блестящим человеком. Я его спросил как-то, сколько у него языков. Он ответил: более десяти.
— А откуда? Из семьи?
— Нет, из тюрьмы. Я сидел с блестящей элитой Ленинградского университета и был самым молодым среди них. Они устали от лесоповала, им хотелось хоть какой-то интеллектуальной жизни. И они меня научили первому десятку языков, а после этого уже было легко добавить.
***
Были у меня и огорчения в России, оставившие тяжелый осадок на всю оставшуюся жизнь.
В один из первых приездов я шагал по московской улице и увидел человека на дощечках. Вся грудь в орденах и медалях. А он сидел с шапкой на этих чертовых дощечках и просил милостыню.
Я должен сказать, что Англия очень хорошо относится к бывшим солдатам. Израиль прекрасно относится. Если ты бывший солдат, получивший ранение, в Израиле за тобой ухаживают изо всех сил. Я не очень понимал, что в других местах может быть по-иному. И когда я увидел этого человека на дощечках, протягивающего руку, я высыпал все деньги, которые у меня были в кармане, в его шапку. И весь день чувствовал себя больным. После этого сказал все, что думаю об этом, — и в институте, и всем моим русским друзьям. И убрался из России побыстрее. Потом взвесил все, решил, что ездить туда все же нужно: я в России работаю над добрыми вещами, не играюсь. Не для балета приезжаю. Хотя балет люблю.