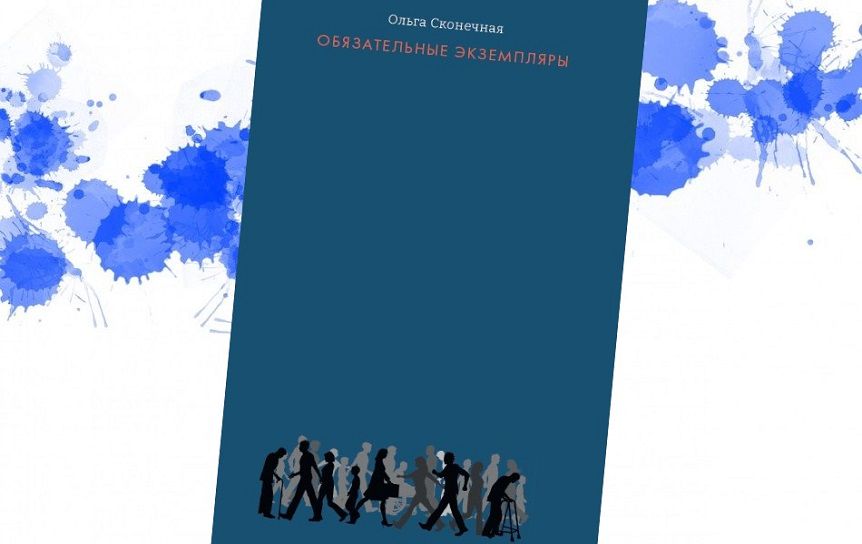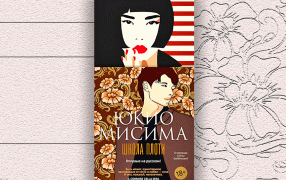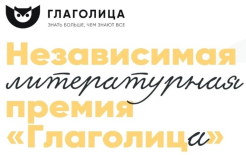Текст: ГодЛитературы.РФ
В издательстве ОГИ вышел сборник рассказов Ольги Сконечной «Обязательные экземпляры» - который как нельзя лучше стыкуется с «Библионочью», проходящей 24 апреля по всей России. Все дело в том, что главный герой этой книги - Ленинка, она же Российская государственная библиотека. Впрочем, не столько даже Ленинка, сколько типы и характеры ее современных посетителей. На язык само собой просится «очерк», но не все так просто: очерковость здесь замешана на мистике: многие обитатели библиотеки вполне себе призрачные существа. Вот и в первой главе сразу же появляется кто-то по прозвищу Костяные Ножки.
Обязательные экземпляры. Ольга Сконечная. — М.: ОГИ, 2021. — 248 с.

ГЛАВА 1. КОСТЯНЫЕ НОЖКИ
Иногда я встречала в Ленинке пришлых: незадачливых ученых-гастролеров, провинциальных и иностранных туристов, людей с большой земли, путников, застигнутых бурей и приставших к туманному острову знаний. Один из них, проездом из Воронежа в Геттинген, увидел меня в компании Костяных Ножек. Впоследствии он произнес знаменательную фразу: «Прихожу в Ленинку, смотрю: сидит Оля, а рядом какая-то сумасшедшая». Какая она сумасшедшая — это же Костяные Ножки. И она вовсе не сумасшедшая. Скорее «дурак-дурак, а мыла не ест», но об этом после...
— Вы не знаете, здесь камеры есть? — спросил меня однажды на галерее молодой человек из местных. Тогда еще не разрешали фотографировать, а этот, как мы его прозвали, Коля Красоткин, одна из «ленинских констант», по терминологии Маши Советской, без устали фотографировал издания Достоевского для каких-то своих, еще неведомых, но наверняка великих целей.
— Не знаю, — ответила я. — А что?
— Да меня... чуть билета не лишили. Сканировал «Неточку Незванову», а ведьма горбатая, которая кашляет, донесла... Стукнуть ее по голове этими книжками, не сильно так... она бы, глядишь, и коньки отбросила... — будто найдя в себе минутного сообщника, он кивнул собственным словам и на всякий случай отвернулся от меня и стал смотреть в другую сторону...
В самом деле, у нее был нешуточный горб, и она сотрясала стены оглушительным кашлем. Когда-то осторожные читатели старались держаться от нее подальше, но потом привыкли.
А дама, прямо скажем, была заметная. Будучи в летах, она все еще хотела впечатлять. Любимые цвета — красный, малиновый или розовый-фукси. Малиновые брюки, розовая водолазка и красный шарф, который волочился зимой по мраморным ступеням, как мантия, призывающая идти следом. Летом она носила короткие юбки, демонстрируя тонкие и очень белые ноги с острыми коленками и венозными сеточками. Длинный хвост, окрашенный хной, спускался по холму спины. Иногда он был собран в пучок и закреплялся заколкой со стразами.
— Почему такое странное прозвище? — спросила Маша Маленькая. — Почему она — «ножки», а не «ножка»?
Мы сидели в буфете втроем. Так называемое «машбюро»: Маша Маленькая (по причине ее миниатюрности), Маша Советская (тайное прозвание, данное мной, дабы сохранить трусливую дистанцию с чуждым мне мировоззрением особы, как назло не лишенной обаяния) — и я. Вообще-то в «машбюро» входила еще никем не любимая Маша Резиновая, но ее не было и она все равно не въезжала в эти материи.
— «Ножки» — потому что у нее их две, обе костяные, — сказала я.
— Все равно чуднó, — сказала Маша Маленькая.
— У нас тут еще одна дама есть, — с удовольствием сказала Маша Советская, — у нее прозвище Три Толстяка. В серебристой кольчуге ходит. — И добавила с достоинством: — Три Толстяка, Костяные Ножки — это такая фигура из риторики...
Маша Маленькая откровенно морщилась, не желая скрывать, что ничего в этой ерунде не смыслит.
Я было открыла рот, чтобы рассказать про «фигуру», но Маша Советская, не чуждая просветительству, перехватила инициативу. Она любила апеллировать к детству и считала (почти как Фрейд), что все объясняется через детский опыт.
— Ты ведь еще в нормальной школе училась? Тогда все объясняли, не то что теперь. — Но Маша Маленькая по-прежнему морщилась.
— У нас в кабинете литературы, на стенде, висели определения, — продолжала Маша Советская, — так что мы знали со школы и про сравнение, и про метафору, и про метонимию.
— Что-то не помню я такого, — не сдавалась Маша Маленькая. — Это у вас тут в столицах, а мы же — замкадыши, — сказала она, желая поддеть Машу Советскую, которая так гордилась своей риторикой, школой, московским детством и родиной.
— А у нас, — сказала я, желая разрушить очередной мираж культурных семидесятых, — ничего такого в кабинете не висело: только плакат «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». А литераторша наша на уроках ногти красила, а потом заявляла: «Я еду к Лиле Брик». (Можно подумать, мы знали, кто это, Лиля Брик.)
Тут уж поморщилась Маша Советская. Да и Маша Маленькая не очень-то обрадовалась: она была против социального снобизма, но и против глумления над советским прошлым, даже над Брежневым, который целуется с Хонеккером. Но в отношении к Костяным Ножкам мы все были едины: Костяные — вредная старушонка, которая много о себе понимает.
Действительно, она любила напомнить о порядке. Нельзя подчеркивать в книгах, нельзя носить их в буфет и, боже упаси, в сортир, а после спуска воды следует пользоваться ершиком, нехорошо открывать дверь ногой, и уж никак не годится занимать ее места в столовой и в зале.
Но ведь народ ничему так не доверяет, как идее порядка и места. Он и нарушает, а — доверяет. Не было б такой идеи — и нарушать нечего, а это скучно. Поэтому в отношении к Костяным Ножкам мы были в меньшинстве. Ее авторитет был очевиден: авторитет знающей, дающей советы, умеющей жить. И это несмотря на одиозный прикид. Ну была бы благообразная старушонка, типаж из сериалов или старых учебников иностранного языка — мадам Анни, голубоватая седина, очки, лукошко и т. д. А тут — короткая юбка, стразы, нарисованные брови, яркие губы и беззубый рот — сплошное неприличие, и еще наглый горб и возмутительный кашель. А люди тянулись: женщины среднего возраста, страдающие от неустроенной судьбы и карьерного зуда, ходили за ней хвостом, носили ее портфель и подбирали с пола красную мантию. И мужчины, мужчины — старые и растерянные, в запятнанных пиджаках и брюках с треугольником, вшитым в задний шов, с ваткой в ухе, в санаторской панаме... Или другие — все еще бодрые, поблескивающие советскими значками, в спортивных куртках с белой молнией под подбородком или в профессорских костюмах, мужчины, знававшие лучшие времена, но не утратившие надежд. Все они слушали ее, затаив дыханье, и, кажется, готовы были заранее записаться к ней на прием.
Иногда я сидела в буфете где-нибудь поблизости. Здесь шумно, и мне не всегда было слышно, о чем она говорит. Наверно, что-то о медицине, медицинской власти и ее злоупотреблениях, а может, о нерадивых больных, не желающих лечиться, а может, о новых злокозненных законах, упраздняющих больницы, или о том, как надо вести себя, если в метро взрыв и раненые. А еще она говорила о добрых временах, о жизни в каком-нибудь санатории на Кавказе или в Крыму. Тут c любовью и умилением рисовались подробности санаторского счастья: на завтрак мы обычно не ходили, так и говорили официантам с вечера, что, дескать, любим поспать в отпуске, не ждите, — она говорила это с нежной улыбкой, адресованной прошлому и своему милому легкомыслию. На обед заказывали рыбу, а вечером муж привозил из города бутылку «Алазанской долины» и «дамские пальчики», мы очень любили... Я не всегда понимала, кто же эти «мы»: кажется, что она постоянно говорила от лица какой-то безмятежно счастливой группы — то дружного семейства, то развеселой компании или же коллектива коллег, и что всюду ей принадлежало славное место — опекаемой мужем и взрослыми сыновьями супруги и матери, очаровательной души общества, уважаемой главы отдела. (Когда-то я ходила к психотерапевту, в прихожей у которого стояли в ряд бесконечные белоснежные тапочки. Получив взамен сапог одну из ворсистых, уютных пар, я усаживалась в кресле напротив доктора, изящной дамы с восточным разрезом ласковых глаз, и она принималась смотреть на меня выжидающе и подозрительно. И когда, не выдержав паузы, я начинала ей о чем-нибудь рассказывать, она меня спрашивала: «И что вы об этом думаете?» Или: «И на что это, по-вашему, похоже? Что это вам напоминает?» Так вот, если бы психоаналитик спросил меня, на что похожи эти истории о прошлом, я бы ответила, что они похожи на сны, те самые сны, которые исполняют наши желания.)
Прежде она иногда приглашала за свой столик, чтобы о чем-нибудь повспоминать или посоветовать.
— Какой у вас красивый перстень. Мне тоже муж дарит и дарит. А я, глупая, раньше их все в отпуск возила, купалась, не снимала. Сколько их морем-то смыло...
Или:
— Вы сегодня в брюках? А знаете, я ведь одна из первых надела брюки в институте. Кримпленовые, помню. Муж из Финляндии привез, брючный костюмчик. Мне он так шел... Заведующий наш увидел и только хмыкнул. А потом за мной и остальные на работу в брюках потянулись, — она вновь заулыбалась своим воспоминаниям. — И старшая лаборантка наша, Таисия Николаевна, ну знаете, такая полная, без фигуры. В «Богатыре» одевалась... А наш вышел из кабинета и говорит: «Это из „Богатыря“, Таисия Николаевна? Удобно, да?» Так и сказал... Она чуть не заплакала...
Серьезных разговоров я старалась с ней избегать, но, чувствуя, что она ждет от пациента хоть каких-нибудь жалоб, сказала как-то, что какое уж тут настроение, когда так хмуро на улице.
— Да, — подхватила она, — нам всем теперь не хватает солнца. Раньше-то государственные пароходы возили через все Черноморское побережье, а теперь эти частные компании возят только из Батуми в Одессу... Все стало так неудобно, не продумают никак.
— Но можно поехать в какой-нибудь европейский круиз...— осторожно вставила я, вспоминая, что не так давно, во времена, предшествующие высокой волне патриотизма, она рассказывала, как «мы разъезжаем кто куда... То в Испанию, то в Хорватию, то на Лазурный берег. Неделями иногда не видимся. Потом встречаемся с сыновьями где-нибудь в Праге, на Новый год». Теперь на мой вопрос она только поморщилась.
— Средиземное море? Надоело оно...
— А я бы поехала...
— Не знаю, не знаю. Я бы поостереглась.
Она любила предупреждать об опасности, которая угрожает нам, ей, всем:
— Осторожно! Эта дверь очень тяжелая! Смотрите, надо, чтоб огонек зеленый загорелся, а то вода-то не вскипела у вас. Осторожно, осторожно! Зачем же мокрой тряпкой тут грязь развозишь, здесь же люди едят. Девушка, зачем же так стул двигаете! Здесь для всех место есть. Вы же ударить можете! Не надо так лифт держать: сломается! Сегодня скользко очень, скажите вашей маме, чтоб ходила осторожно: она все еще жива?
И вот однажды появился в Ленинке человек, который, похоже, не испытывал к ней никакого почтения и которому, надо думать, уже все было нипочем. Монголоидного типа, от семидесяти и выше, а может и все восемьдесят пять, кто их, азиатов, разберет. Одет так, что лучше держаться подальше. Впрочем, первый ленинский кордон, где у самой двери висит предупреждающая табличка, что люди в грязном и зловонном не допускаются, его костюм преодолел, как и костюмы многих иных представителей республик бывшего СССР, презревших условности цивилизации.
Я прозвала его Бурятским Дедушкой, что вызвало яростный протест Маши Маленькой.
— Ты же ненавидишь, когда называют дедушкой, — сказала она мне.
В самом деле, мне ужасно не нравится нынешняя мода называть стариков дедушками. Когда на рынке моего отца называли «ваш дедушка», мне прямо нехорошо делалось. Но этого, в отличие от моего отца и многих других мужчин в возрасте, хотелось назвать именно дедушкой. Может быть, потому, что, завидя меня издали, он вечно останавливался и поджидал со своей хитрой шаманской улыбочкой, иногда даже показывая на меня пальцем, точно призывая кого-то в свидетели. «Ты? Опять ты?» — обычно говорил он, разыгрывая удивленное возмущение. Или: «Пора есть!» Или: «Хватит работать! Высохнешь!» Или: «Ну наконец-то! Выспалась!» Это фамильярное обращение и в особенности довольный взгляд, которым он на меня смотрел, и дурацкие вопросы, и напоминания о еде почему-то действительно связывались у меня с образом деда. Иногда он, правда, говорил гадости, какие мой дедушка никогда бы не сказал: «Пополнела ты что-то! Потомство ждешь или диабет у тебя... Муж-то хоть есть? Дело-то свое знает? Или тут кого караулишь...» Но все это очень добродушно. А еще прежде он частенько спрашивал: «А где твоя бабушка?», имея в виду Костяные Ножки. «А что, похожа на бабушку твою», — и хихикал.
Но как-то раз ему приглянулся стол, за которым она сидела. Вокруг полно свободных мест, а он почему-то свои книжки про тюркские языки водрузил по соседству с ее «Не навреди» (про какого-то модного американского хирурга, которого она постоянно критиковала и разоблачала). Возвращаются Костяные на свое место с кипой новых книг: «Санаторно-курортный вестник», «Проблемы гигиены на предприятии» и проч. — и видят, что за ее столом на соседнем стуле сидит не отвечающий гигиеническим стандартам Бурятский Дедушка. Сидит как ни в чем не бывало, водит лупой по строчкам и шевелит губами. «Разве нельзя было сесть за свободный стол?» — возмутилась она. Но дедушка не реагировал. «Уважаемый, посмотрите, книги лежат, неужели так трудно понять! Почему нужно сесть туда, где уже сидят люди!» Последняя реплика была произнесена совсем громко, так что он оторвался от книги и, глядя не на нее, а куда-то вбок, не очень разборчиво, но злобно произнес: «Я тут сижу, имею право, я доктор наук». Она посмотрела на него с неприязнью, брезгливо как-то покашляла, взяла свои книжки и отправилась за другой стол.
Бурятский Дедушка выиграл раунд, но разозлился не на шутку. С той поры он стал меня спрашивать:
— Где она, где бабка твоя, где командирша суровая? — А иногда добавлял: — Ничего. Пожалеет она, так и знай. Плохо ей будет, помрет скоро. — И завершал свои мрачные посулы ка кой-нибудь странной цитатой: — Как писал мой друг-поэт: «Маленьким быть хорошо: влезешь в любую дырку. И большим быть хорошо: не во всякую влезешь дыру».
Я наблюдала, как Бурятский Дедушка, приметив ее горбатую спину и красную мантию, становился где-нибудь в отдалении, глядел недобрым взором и что-то нашептывал. А однажды подсмотрела, как он, спрятавшись за колонну, грозил ей пальцем. Поскольку пожилая медичка плохо видела и вдобавок всегда смотрела себе под ноги, едва ли она что-то замечала.
Некоторое время я не ходила в библиотеку, а когда пришла, сразу увидела Бурятского Дедушку, который поднимался по большой мраморной лестнице. Наверно почувствовав мой взгляд, он остановился, обернулся ко мне и победно просиял. Я вопросительно посмотрела в ответ, но Бурятский Дедушка только подмигнул со значением и пошел себе дальше. На галерее мне попалась экс-буфетчица Леля, которая к тому моменту, как говорили, «повысилась», то есть буквально взлетела из буфета в библиотекари: из подземелья, где она томилась за стойкой с шоколадками, леденцами и печеньем, — на светлые этажи знаний. Взлетела и, между прочим, заважничала, что не одобрялось, к примеру, Машей Советской, которая не любила таких необоснованных перемещений. Кое-кто, впрочем, оценивал ее нынешнее положение — малообитаемый зал новых поступлений — как почетную ссылку, в которой бывшая королева тосковала об утраченной свите.
— Как вы там? — спрашиваю.
— Тихо у нас.
— Приходит кто-нибудь?
— Мало. Кое-кто из моих буфетных фанатов.
— И что? Никаких событий?
— Никаких. Только Костяные по голове получили...
— Как это?
— Полкой ее стукнуло стеклянной, когда за книжкой полезла. Крику было...
— А чего она орала, к кому претензии?
— Обещала подать иск на библиотеку, что не соблюдают меры безопасности. Но ко мне не относится, меня-то она любит. Вы же знаете, я ей всегда и воды налью, и стол протру...
— Но она как, цела?
— А то... Что ей сделается, кашляет как ни в чем не бывало.