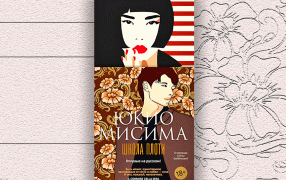Текст: Тимофей Николайцев, г. Армянск
УСТАМИ МЛАДЕНЦА
— Слушай, — сказал он осторожно, когда холодные дежурные фразы иссякли. — С Машкой что-то происходит ведь…
Она не ответила, но должно быть из вежливости сделала выражение лица вопросительным… Будто переспросила о чем-то необязательном.
— Ты не замечала?
— А ты, значит, заметил? – тотчас вспыхнула она, не поднимая взгляда.
— Не начинай… — попросил он. – Машка тебе разве не жаловалась?
Она, наконец, посмотрела на него – вскользь, и сразу же опять отвернулась.
Он тоже отвернулся, потом мигнул, задержав веки прикрытыми, чтобы самому не видеть её искусственно надменной позы – она пила кофе из маленькой чашечки, придерживая ту нарочито небрежно чуть полноватыми красивыми пальцами. Зубы мелко-мелко стучали о край. Чашечка была фарфоровая, с золотистым ободком… и зубы, до сияющей белизны оттёртые тремя видами душистых паст, тоже казались фарфоровыми, и этот звук – фарфор о фарфор… — от него съёживалась кожа на затылке. Странно, подумал он. Это же свадебный сервиз, подарок кого-то из её родни на новоселье – раньше они постоянно пили из этих чашек, но нечего такого раздражающего он не замечал. Впрочем, он многого тогда не замечал…
Он передёрнул плечами, надеясь, что вышло незаметно, но она, конечно, заметила – она ведь всё всегда замечала и этим гордилась – губы тотчас сжались в тонюсенькую нервную полоску и глаза тоже сощурились. Чашка была поставлена на блюдце и отодвинута в сторону. Она откинулась на спинку кресла и руки белыми птичками вспорхнули на колени и улеглись.
Она злилась, и он её прекрасно понимал — не нужно было соглашаться на чёртов кофе. Он чувствовал, что и она сейчас думала так же – не нужно было предлагать. Но, когда он позвонил в дверь и ему открыли – с кухни предательски пахло горячим чайником, а у него хлюпало в кроссовках и джинсы были мокры почти до самых колен. Вот и сорвалось с языка… Теперь она нервничала.
А он маялся, дав себе зарок, что в этот раз уж точно не даст заполыхать скандалу, но не зная, что ещё сказать, и не вполне понимая, что из сказанного сможет не привести их к ссоре. По циферблату настенных часов раздражающе-медленно скребли секунды. Она была не одна в квартире — из комнаты бормотал телевизор, смято и неразборчиво выплескивая в коридор шелестящие фразы. Да и вряд ли бы она его пустила, если бы была одна… Он посмотрел в свою чашку, на непроницаемый кофейный мрак и ободок коричневой пены, налипшей по краям.
— Я звонил позавчера, — сказал он. – Тебя дома не было. Машка взяла трубку и рассказала мне.
— Что именно? — спросила она. – Что меня не было дома?
— Нет, – ответил он, помолчав. – Только про свои кошмары…
— И что? – сказала она. – Ты тоже их напугался?
— Перестань… — он все-таки закипал понемногу. – Она, все-таки, и моя тоже... — Он запнулся на этих словах, снова потупился, чтобы не встретиться с её взглядом, который сейчас наверняка сделался насмешливым. — Как она хоть?
Она пожала плечами. Медленным особым жестом, подтягивая ключицы к мочкам ушей.
— Всё в порядке. Это же ребенок. Прошлой ночью она немного поплакала… И это всё.
— А днём?
— Днём она не спит!
— Машка разве тебе не рассказывала своих снов? – спросил он, беря себя в руки. — Она же мелкая ещё совсем – откуда у нее жуть такая в голове?
— Это ребенок, — снова повторила она.
Он поднялся, отодвинув стул, зачем-то пошёл к окну. Тяжёлая рябая тюль нависала перед подоконником, как маскировочная сеть. Тюль была новой — он тронул её, и она отошла, собираясь складками. А вот за окном, как и прежде, горбатились и напирали друг на друга лоснящиеся мокрые крыши – дом был новостройкой, единственной высоткой на район. Беззвучно оползали остатки снега на карнизах. Пробегали внизу машины, рассекая пузырящиеся лужи.
— Пожалуйста, – сказала она. – Не трогай шторы.
— Да, — он кивнул. – Конечно.
Подоконник был влажен, хотя отопление в городе ещё лупило на полную. Жёсткие ребра отопительных регистров прижигали колени. Но прямо через стекло всё равно пропотевала душная испарина. А за стеклами, на припорошенном наружном подоконнике, чёрными сморщенными комочками валялись прошлогодние мухи и посеревший лоскуток газеты… и ещё корчился мёртвый листочек незнакомого дерева, невесть каким ветром занесённый на такую-то высоту. Он обернулся и несколько минут смотрел на мерно скрежетавший стрелками циферблат. Сидевшая в кресле женщина молчала. Он так и подумал о ней – женщина, сидящая в кресле. Он тоже избегал на неё смотреть. Не было у неё больше ни имени, ни лица. Наверное, лучше было уйти… прямо сейчас. Вообще лучше было бы не приходить.
Он постоял, слушая пустоту внутри себя – зачем он приходит? Ничего ведь не осталось тут – только чахоточный свет люстры в пустотной белизне потолков. Ехидный щербатый оскал батареи лыбился под подоконником. Он моргнул, отгоняя наваждение. Ему было холодно, он не до конца ещё просох, но быть тут становилось холоднее с каждым выдохом. Машка – подумал он, – вот зачем… Пухлое и розовощекое… с парой косичек, перевитых туго, как смолёные корабельные канаты, и торчащих вразнобой из густой соломенной копны. Дочь. Слово, приросшее намертво – оторвать можно, но только с мясом… Очень больно. Наверное, он не сможет.
— Пойду я, — сказал он, помедлив.
Она кивнула, оставшись сидеть.
Он справился с мокрой обувью… потом долго брёл по улице, оскальзываясь через шаг. Бесконечный проспект пересекал, казалось, весь мир… от края до края. Он топал, никуда особо не глядя — скользили мимо серые оштукатуренные стены. Тёмный ноздреватый снег просевших сугробов топорщился вдоль тротуаров, отпотевая тут и там на заплатах металлических люков. Проспект повернул по дуге – оплывшим малиновым пятном высвечивало меж далёких новостроек чахлое мартовское солнце. Словно сонные призраки стояли деревья – рыжий туман клубился в ветвях.
Он миновал хрущёвку с прохудившейся крышей, где жил когда-то – свешивались с карнизов гигантские сосульки, похожие на непомерно отросшие бороды. Эта часть города была запущенной – лохматой и обветшалой, скорее доживающей, чем живущей. Всё об этом говорило. Дома сидели на корточках вдоль раскисших тротуаров – будто вереница состарившихся за одну зиму одноклассников…
Не оглядываясь на этот призрак детства, он свернул в боковую улочку, протиснувшись между двумя замотанными в шалевый пух старушками, что торговали вязанными вещами с перевёрнутых ящиков, и синюшным, клёпанным железом брошенного киоска. «Пельменная» была тут – парой ступеней ниже прочего заснеженного мира. Спиной чувствовалось – старушки смотрели вслед осуждающе… Он нерешительно потоптался – больше для них, чем для себя… потом потянул визжащую пружиной дверь. Натоптанный кафель пола был скользок и бугрист – он прошёлся по нему, энергично печатая шаг, чтобы налипший снег отлетел с кроссовок, прежде чем растаять.
На него обернулись.
— О… — воскликнула тетя Маша… и тогда плотный усатый мужик, что рассчитывался за порцию пельменей – тоже оглянулся. – Явление Христа народу!
Он притиснулся вплотную к стойке, нарочно задев усатого плечом.
Усатый сразу ему не понравился. Рисуясь перед ним завсегдатаем, он навалился на стойку локтями и тотчас об этом пожалел – под ними хлюпнуло и мокрый тоскливый холод, просочившись сквозь и без того подмокшую джинсу, пополз по руке.
— Физкульт-привет, — сказал он. Получилось хрипло и сдавленно – усатый подумал и отвалил, не стал связываться.
— Мокровато у тебя, тёть Маш… С потолка течёт?
— Шутник! — фыркнула она. — Щас вытру… Погоди-ка…
Он убрал руки и тётя Маша, выудив из-под стойки огромное замызганное полотенце, прошлась им, разгоняя в стороны застоялую лужицу. Он оглянулся на зал. Народу было не то, чтобы много… но порядком… Шаркали ноги, втирая в кафель откисшую снежную кашу. Отсвечивало тускло пузатое пивное стекло и сухо хрупала сминаемая одноразовая пластмасса.
Усатый сумел найти свободный столик и пристроился со своей тарелкой совсем рядом.
Тётя Маша, нависая над стойкой мощными распаренными предплечьями, уже выставляла требуемое – сто граммов в стеклянной рюмке и бутерброд с селёдкой на блюдце с отколотым краем. Он терпеть не мог одноразовую посуду, и тётя Маша об этом помнила. Его ждали здесь и это утешало.
Он поднял рюмку, брякнув ею о блюдце:
– Ваше здоровье!
– И сам не хворай! — ответила тётя Маша, но он уже – опрокинул и застыл, переводя дух.
Водка была холодной, до хрупкой ледяной ломоты в зубах – тоже привилегия завсегдатая, из специальной литровой бутылки, втиснутой в морозильную камеру среди свертков заиндевелого полиэтилена – для своих.
Он – свой. Это утешает, ещё раз подумал он.
— Как там тёзка моя поживает? — спросила тётя Маша.
Опять взвизгнула дверь, и они оба обернулись – но это не пришли, а уходили… может курить, а может и насовсем…
— Так как с малой повидался-то?
— Никак… – ответил он. – Увезли к бабушке.
– Опять? Надолго?
– Не знаю. Молчат… – он подумал вдруг, что бывшая жена и впрямь как-то слишком нарочито не обращала внимания на его вопросы. Просто сказала «у бабушки», а дальше только пожимала плечами.
– Вот стерва, – решила за него тётя Маша. – Предупредить хоть могла…
Он тоже пожал плечами. Правила ушедших из семьи отцов были ему известны – те три мятые десятки, что он приносил раз в неделю, в общем-то засчитывались как пропуск к дочери, но пропуском были временным, не давали никаких особых прав. Кроме, может быть, выданного самому себе права на посещение «Пельменной». Его здесь ждали, и он отмякал тут, около стойки, а после первой рюмки уходило и тупое раздражение от этих несостоявшихся встреч, от тяжёлых взглядов через порог, становилось почти всё равно – словно жаркая паутина падала на темя, сковывая мысли и чувства, и оставался лишь тугой озноб в затылке. Всё равно… Когда всё равно – гораздо легче. Тётя Маша напрасно старалась, хотя он понимал, что и ей, в общем-то всё равно… это правила игры были такие.
– Стерва! – подвела окончательный итог тётя Маша.
– Да нет, – устало сказал он. – Причем тут она? Меня же не гнали, это ведь я от них ушел. – Он задумчиво поправил пальцами селедку, мелко накрошенный лук просыпался в тарелку, он подмёл его щепотью и притиснул на бутерброд.
На кроссовках оттаял не до конца стряхнутый снег, мягко зазнобило подмоченные пальцы. Он посмотрел на ноги – шнурки отяжелели, свисали дождевыми червями. Совсем раскисли, сменить бы. Он посеменил ногами – дождевые черви ожили и повели в стороны скользкими кольчатыми телами, плотоядно принюхиваясь к размозжённому, впечатанному в кафель куску чего-то рыбного – торчал сквозь размокший хлеб, загибаясь подобно скорпионьему хвосту, осклизлый костистый хребет. Он отшвырнул его ногой – подальше к порогу. Совсем недавно он презирал подобные места. Тошниловка – вот как они называли эти полуподвалы, когда поперёк их милых вечерних прогулок выкатывался из таких вот «Пельменных» подвыпивший контингент… Совсем недавно, это сколько? – задумался он… Три года… Да, может чуть побольше. Они ведь прокатились мимо, как одна тревожная ночь, эти три с половиной года, и нечего было вспомнить… Любовь, забытая и проклятая… Господи… Неужели – совсем ничего? Он попытался выдавить из прошлого хоть что-то, хоть жалкую мелочь, но тотчас накатило нечто такое, чего в его памяти быть совсем не могло…
Он вдруг увидел себя бегущим по длинному облупившемуся коридору и удивился – это, похоже, был коридор их школы, где они дружили все старшие классы напролёт, где ходили за ручку на переменах под эти нескончаемые тили-тили-тесто, а им было наплевать на всё – один портфель на двоих, какие уж тут насмешки… Школьное здание было старым, довоенной ещё постройки, но сейчас этот коридор выглядел пугающе-древним склепом, почти подземельем – угрюмые наклонные стены смыкались над головой тоннами спёкшегося багрового кирпича. Сам воздух гудел от непомерной этой тяжести, и пучился тестом выдавленный ноздреватый цемент. Щёлкали щелястые доски, истерично взвизгивало в них сотлевшее гвоздевое железо. Этому коридору было, наверное, лет сто – влажные стены искрошились, и окислы мха зеленели прямо сквозь кирпич. Он бежал… Зачем? Что-то важное было впереди… что-то страшное оставалось сзади… или – наоборот… Он непременно заблудился бы, пропуская нужные повороты, если бы не провод – нестерпимо белый, новенький, двужильный, змеился по стене, рассекая эту кирпичную сдавленность. Он вдруг осознал, что бежит всего лишь вдоль этого провода, неизвестно кем и для чего протянутого… и остановился.
Размашисто и глухо – словно кувалдой в сырую глину – бухало сердце, и от обильной горечи скорчивался язык…
Я всё таки допился до чертей, — подумал он, наклоняясь над рюмкой… Но нет, всё было в порядке — перед ним по-прежнему светился закатными желтыми кляксами затёртый стеклянный витраж «Пельменной», и большие чёрные мухи ползали по нему, елозя слюдяными крыльями. Головы у них были – страшные, с фиолетовым отливом…
— Да ты закуси, закуси… – сказала тётя Маша. Голос её был ещё не совсем нормальный – со странными замогильными нотами… – Не лезет же в тебя она, родимая – без закуси-то… И смотри мне – до чертей так допьёшься… — Она подхватила распростёртое на стойке полотенце и без замаха, коротко и мощно, шаркнула по витражу. Жалобно тренькнули стёкла, мухи сорвались с них и с точильным звуком принялись кружить под потолком.
— Вот окаянные… — сказала им тётя Маша в сердцах. – Когда только оттаять успевают … Горячее будешь?
Он помотал головой.
— Как-дела-то? – спросила она без особого интереса – будто одним словом. — Работаешь?
Он кивнул.
К горлу уже поднималась знакомая сладковатая тяжесть. Начинали гудеть, подрагивая, колени. Свет из люминесцентной пары под потолком притупился, стал ровным и плотным, душноватой шалью накрыл затылок. Тётя Маша брякала крышкой – вился над кастрюлей белёсый химический пар и, стиснутая крабьими клешнями её ладоней, кругами ходила шумовка, выдёргивая из булькающего кипятка скользкие комочки пельменей. Тот усатый тип опять притиснулся сбоку, с хрустом распечатал бумажник – сунул руку в его устланную ассигнациями полость.
— Выпьешь, друг? – спросил, щурясь сдавленным мутноватым подглазьем.
– Уже… — ответил он.
– Что?! – не понял усатый.
– Только что! — отрезал он, глядя против воли на его густые, пшенично-жёлтые усы.
– Ну, извини, — обиделся усатый и, повернувшись к тёте Маше, картинно воздел узловатую длань в сторону небогатой барной полки. – Любезная… мне коньяка сто пятьдесят, будьте добры… и бутерброд… с сёмгой.
– Сёмги нет… – сказала тетя Маша. – Откуда ж у меня сёмга?
– А что есть? – усатый расстроился, словно и впрямь ожидал отведать здесь благородных закусок.
– Из рыбного – сельдь с луком… последний остался…
— Селёдка моя! – заявил он, пока усатый не успел согласиться. – Я, считай, оплатил уже, тёть Маш…
Усатый снова покосился, но ничего не сказал.
– Ещё горбуша была где-то… и кальмары. Это для совсем уж привередливых! – продолжила тогда тётя Маша. – В принципе, шпроты могу открыть… Огурец есть маринованный с луком, а из мясного…
— Ладно, — обречённо махнул рукой усатый. – Пусть будут кальмары…
Зашелестел купюрами, пересыпал куда-то звякающую мелочь… бумажник был объёмен, как трюм грузового судна.