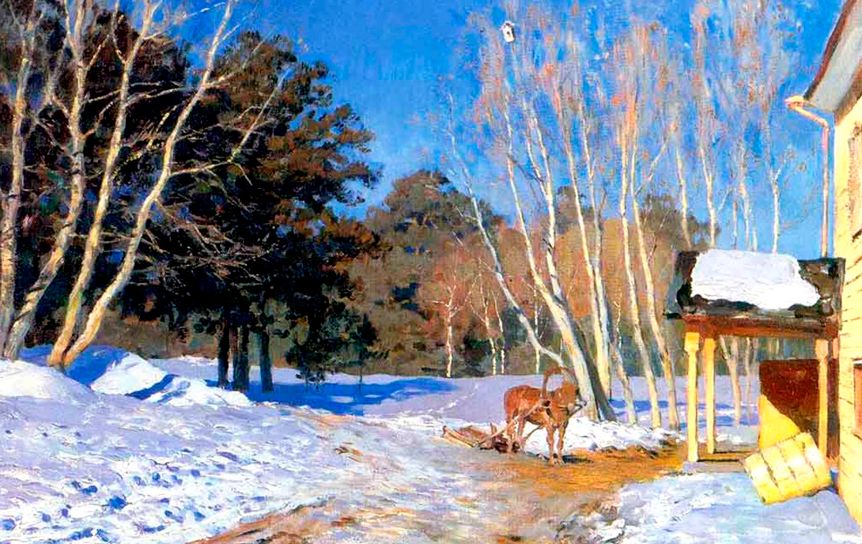Текст: Татьяна Андреева, Москва
НЕВЕЛЬ
Бабуля в семье главная, потому что у моих родителей в голове ветер, у мамы к тому же розовые очки, а папа делает, что его левая нога захочет. В выходные они спят, пока солнце в попу не упрется. Бабуля говорит другое слово, но мне его повторять нельзя.
Есть ещё бабушка Уля, папина мама. Я ее никогда не видела, поэтому мы с родителями едем к ней в Невель. В нашем дворе про Невель никто не знает, даже третьеклассник Андрей.
“Не-верь, Не-вель”, — мчит меня поезд за темные леса, за высокие горы, в Псковскую область, в Великие Луки. “Не-вель от слова не-велено, — понимаю я. — Запрещено, как пирожок с повидлом за пять копеек. Бабуля говорит, что он на машинном масле, и не покупает. Папа купил один раз, но я проболталась, и нам попало”.
Оказалось, что Невель — это двухэтажный деревянный дом, оба подъезда распахнуты настежь от жары. Внутри прохладно, пахнет кошками, “осторожно, здесь порожек". Бабушка живёт на втором этаже. В прихожей ведра с водой, как в деревне. В комнате высокая полукруглая печка, называется “голландка”.
Если не слушать скучных взрослых разговоров, а выйти из квартиры, подняться по узкой лесенке и просунуть голову в квадратный люк, то можно увидеть в полумраке длинный-предлинный чердак, расчерченный веревками, как тетрадь в линейку, а на линейках висит скучное взрослое белье. И пахнет тоже бельем. Эка невидаль!
А можно спуститься во двор и пробежать по жухлой траве, перепрыгивая серые проплешины, прямо к низким сарайчикам. Называются “дровяные”. Сарайчики покосились, подпирают друг друга, как старички, но у каждого — свой замок.
Я прижалась ухом к занозистой двери и услышала, что кто-то скребется внутри. Пахнет оттуда пылью, мазутом и дохлой мышью. Дураку понятно, что там спрятаны несметные сокровища, золото-бриллианты, а охраняют их дворовые собаки Сыч, Баранка и Шкет.
Бабушка Уля кругленькая, мягенькая, как ежиха Ухти-Тухти. Ее ручки что-то насыпают, месят, заталкивают в кастрюлю, а оно потом лезет обратно. Бабушка хватает его, мнет, получается колобок. “Я колобок, колобок, по сусекам скребен, на сметане мешен”, — говорит она мне, как маленькой, заглядывает в глаза и улыбается.
Вечером родители убегают на танцы. Бабушка Уля садится в кресло у моей раскладушки и рассказывает небылицы. Будто родилась она в Озерном крае, на станции Опухлики, будто было их тринадцать сестер, и она младшая. Ага, и все они опухли в своих Опухликах. Вот только мне Бабуля говорила, что они с мамой опухли совсем даже не в Опухликах, а в деревне Власьево в сорок седьмом году. Я запомнила год, потому что когда балуюсь за столом и не ем, Бабуля ворчит: “Сорок седьмого года на тебя нет”.
И ещё мама не ходила на улицу, у нее валенок не было. Сидела у окошка и смотрела на ледяные разводы. Растопит пальцем дырочку, а и в дырочку не видно — сугроб выше окна намело. Так она и не увидела зиму. Сидела опухшая и ждала еду. Еда тогда называлась "жмых".
Что ли тринадцать сестер в Опухликах тоже у окошка сидели? Они же не уместятся, только если посчитаться и сидеть по очереди. Можно ”на золотом крыльце сидели” посчитаться, или “эни-бени-рики-паки”, или совсем по-простому “кышил-мышил взял и вышел”. Хотя на тринадцать сестер ее не хватит.
Время у бабушки Ули перепутано, как нитки в швейной банке. “В старину, в молодости, жил у нас в Опухликах такой Григорий…” Будто “в молодости” и “в старину” одно и то же. В молодости — это когда она была молодой — прошлое. В старину — когда она станет такой старенькой, что даже с палочкой — будущее.
Ещё она говорит “я свой век прожила”, хотя прожила она пятьдесят лет, а даже шестилетке известно, что это только половина века.
“Девичья моя фамилия — Живодеркина.” Это не фамилия совсем, это обзывательство, у нас так во дворе дразнят Костика. Не того Костика, у которого папа с балкона поёт, а того, который второгодник.
Когда мы уехали, Невель исчез. Я стояла коленками на сиденье, приплюснув нос к заднему окну автобуса. Мама сказала “не облизывай стекло”, а папа спросил “вкусно?” Я отвернулась от окна, ответила “очень” и снова повернулась, а Невеля-то и нет!
Возвращаться из тридевятого царства долго. Поезд останавливается у каждого столба. Папа прямо с вокзала уезжает в ночную смену. В такси пахнет бензином, меня рвет пирожком с повидлом, и мама извиняется перед таксистом тонким голосом. Бабуля говорит: “Ну наконец-то. Чисти зубы, и в постель”.
Под дверью в комнату родителей лежит полоска света, бубнит телевизор. Мама говорит что-то жалким тоненьким голосом. Бабуля отвечает громче, что нечего звать в гости, не спросив, и сто лет бы она не видела эту вашу Ульяну Сидоровну, ей и сынка ее хватает непутевого, да делайте что хотите, своя рука владыка, и что-то ещё, но уже тише, не разобрать.
“Невель-небыль”, — шепчу я, засыпая. Мне снятся тринадцать сестер у замерзшего окна и голландская печка; ряды веревок на чердаке, где Ухти-Тухти, неутомимая ежиха, развешивает красный халатик белки и рукавички полосатого кота среди плоских пододеяльников и стыдных атласных лифчиков.
Снится трехголовый Змей Горыныч по кличке Шкет, что охраняет золото-бриллианты. Нужно кинуть ему колобок, и дверь откроется — бери сколько хочешь, вот и тачка рядом. Я бегу за колобком к бабушке Уле, но ее нет. И Невеля нет, нет Опухликов и Озерного края, все они смешались, вздыбились, закрутились вихрем до самого черного неба, и вдруг осыпались золотыми хлопьями, бриллиантовой пылью и растворились во мне: растерянной, шестилетней, вечной.