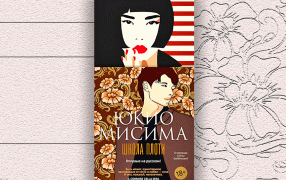Текст: Марина Марьяшина
Паутина (отрывок из романа)
На дворе почтамта слякотно, на варежки падает и тает снежная стружка, а под крышей курчавится повилика, уже выпустив из желтых стеблей нежно-салатовые язычки молодых листьев. Незнакомые люди, крепкие мужчины и женщины, ходят в резиновых сапогах, по колено забрызганные грязью, носят клетчатые баулы на погрузку. В марте в кубанской станице уже тепло, можно без шапки и варежек, но Аришу кутают по-зимнему – чуть ветерок – и продует.
Говорю о себе в третьем лице, потому что в этом воспоминании нахожусь сверху и справа от собственного тела. Вот она достает из красной курточки маленькое зеркальце с крышкой в форме кошачьей морды, наводит его на стекла почтамта – солнечные пятна раскалываются и дробятся, прыгают под ногами взрослых, мешаются. Почему все вокруг такое грустное? Лица незнакомых старух – осуждающие, с отвислыми грушами носов, и мужчины – неприветливые, чужие, не похожие на соседей-станичников. Кажется, еще немного, и исчезнет сейчас и мама, и отец, и сама Аришка в этом времени – тягучем, как трехдневный молочный суп. От этого, будто наручные отцовские часы, медленно и гулко тикает у виска тревога.
– Паутина, хватит ковыряться, быстрее, говорю! У нас поезд через два часа, а фургон через час уже отправляют.
Мама приносит отцу новые и новые одеяльные тюки, из которых торчат сковородки, кастрюли, корешки книг и прочее нажитое добро. С собой она хочет взять только небольшую клетчатую сумку и меня, остальное поедет в Сибирь отдельно.
– Не лезь под руку! – беззлобно и как-то жалобно ворчит отец, перетягивая большие деревянные короба черной тканью.
Прямоугольные и квадратные, они похожи на разных размеров гробы, и маленькой Арине отчего-то неприятно на них смотреть, а еще к горлу подступает свинцовая тяжесть плача –жалко отца. Хочется подойти и обнять эту покатую худую спину в кожаной потрепанной куртке, уткнуться и разрыдаться. Но Арина почему-то не может, не решается подойти сейчас, представляя, как зыркнут из-под платка мамины карие глаза, как подожмутся в осуждающую нитку ее красные губы.
– Вот вечно ты копаешься! Не ровно крышку прибил вот тут, – ехидно протягивает мама это «тут», бьет рукой по черной «спине» ящика, – шевелись, давай.
– Мог бы вообще не помогать, посмотрел бы, как ты уедешь.
У отца дергается уголок рта, видно, как мелко вздрагивает рука с молотком. Несколько раз он попал по пальцу, промазал по шляпке гвоздя. Обтирает ладони снегом, скатывая красное в шарик, отбрасывает его и продолжает натягивать ткань, стучать молотком.
Подходит чернявый парень в рабочей форме, ставит на тачку наши гробы вертикально и увозит со двора.
– Мама, это гробики, – стараясь говорить весело, замечаю я.
– Ужас! Нельзя так говорить. Это вещи наши, и они поедут к бабе с дедой, а потом мы с тобой к ним приедем. Хочешь к бабе Тоне с дедой Васей, Аришка?
– Там пельменями накормят? Хочу! А папа когда приедет?
– Папа не приедет, он нам не нужен, – нарочито громко отвечает мама. – Будем жить с тобой у них, там во второй класс пойдешь. У тебя будут новые друзья.
Ехать нам двое суток. Электричка до Адлера, потом пересядем на поезд до Тюмени. Какое-то время родители сидят молча в сыром и обшарпанном зале ожидания. Они по бокам, я посередине. Тускло горит лампочка.
– Лен, может, передумаешь? – закрыв лицо руками, сдавленно произносит отец.
Поражаюсь, как поменялся его голос: папа у меня военный, говорит всегда бодро, перекатывает медленные гласные по-южному, а согласные сыплет быстро, как зерно из мешка. «Чи шо? Чи ни шо» – мама вечно передразнивает его говор.
– Мы же взрослые люди, Паш. Ты все понимаешь. Мне надоело так жить. Достало! Давай по-нормальному, без скандалов расстанемся. Мы же уже все обсудили.
– Вот шо тебе не хватало?
– Денег, Паш. Мне надоело с тобой копейки считать, нищета поганая задолбала. И вообще, мне с тобой скучно. Разные мы люди. На развод я подала уже, тебе бумага придет. На алименты не подавала, надеюсь, честно будешь платить.
Мама нарочно говорит грубо, смеется и подтрунивает над отцом, чтобы не выдать своих сомнений. Как теперь – одной с ребенком, без нормального образования, без денег, работы, жилья? Да, родители и сестра помогут, но придется пахать самой, как-то крутиться. Умеет ли она это?
– Ты хорошо подумала?
– Я десять лет только и делала, что думала. Пошли, электричку объявили. Четвертый путь.
Деревянные лавки в электричке совсем неудобные: у них покатые жесткие спинки и ледяные сидения. За окном солнечно, и гремящее нутро вагона заливает ледяным лимонным раствором, от которого почему-то щиплет глаза и сдавливает в груди. Мало воздуха, и родители беззвучно шевелят ртами, как рыбы.
¬– Осторожно, двери закрываются. Провожающих просьба покинуть вагон, – объявляют по громкой связи.
– Ариша, давай твой рюкзачок положим сверху, – говорит отец, усевшись между лавками передо мной на корточки. По его щекам бегут и бегут слезы, собираясь в паучьих морщинках у глаз, – Ты с рюкзачком, как путешественник, – улыбается он.
Я послушно отдаю синий рюкзак, смотрю, как папа убирает его. Долговязый, с большими ушами. Острые локти в свитере орудуют над моей головой, ставят мамину сумку в сторонке от чужих вещей.
– Я буду писать, моя рыбка, – шепчет он мне в макушку. Мама отворачивается к окну.
– Папа, пока! – кричу я на весь вагон, – пока-а-а, папа!
Под полом электрички вздохнуло что-то, медленно поплыла за стеклом платформа. Я смотрю, как отец неуклюже, на длинных своих ногах, бежит за нашим окном, машет рукой. Поседевшая голова с небольшой лысиной, расстегнутая нараспашку старая кожанка, под ней – линялый свитер еще со времен его службы на Байконуре. Короткие штанины брюк и смешные туфли, остроносые, как лодки.
Мама пытается меня рассмешить.
– Смотри, какие острые у него коленки. Как цапля бежит.
– Папа плачет, – втягивая воздух, шепчу я. Воздуха не хватает и больно в горле, в нем дрожит и никак не может провалиться в живот что-то круглое и тяжелое, как будто я проглотила шайбу.
Взгляд приковывает паутинка, свесившаяся с потолка на край полки для сумок. Она вспыхивает золотым волосом и исчезает, вспыхивает и исчезает.
Мама звала папу Паутина, Паутина-Буратино, а еще Сан Пауло и Папуас. Чем больше домашних прозвищ – тем потешнее. Мы смеялись над ним, мы были как две маленькие подружки-заговорщицы: пока спит, красили его полные губы красной маминой помадой (под ее шепоток частушки «он свои большие губы бережет на холодец»), вставляли в уши и в нос цветные карандаши, сшивали штанины брюк или связывали ноги какими-нибудь тесемками. А когда он просыпался и начинал ворчать, прятались где-нибудь за дверью и тихо хохотали. Спали родители раздельно – мама со мной, на втором этаже, отец на первом – в единственной комнате с ремонтом.
Я представляю, как он вернется в пустой наш дом. Он будет ходить из комнаты в комнату, захочет выпить, но не сможет. У него непереносимость алкоголя. Тут же навалится дурнота и тошнота, которая не даст забыться, не принесет успокоения. Гудит, наливается свинцом в грудине плач, но не выходит. Я беззвучно открываю рот, а мама говорит, что я простужусь, что не надо так делать.
Закрываю глаза и кладу голову ей на колени. Вижу, как отец дошел до наших ворот и стоит, не может войти в калитку. Стоит и смотрит на темные окна. Потом уже, всё-таки, смахнув ощущение, что кто-то подглядывает за ним, разувается, шумно дышит, гремит обувницей. Этот грохот отскакивает до второго этажа, отзывается эхом в пустом доме.
В самом проходе стоит коробка, подписанная черным маркером – «Шторы. Халаты Лены». Эта надпись будто смеется над ним на прощание. И Ленин голос издевательски звучит в ушах: «да кто ты такой? Ты не мужик! Ты – Паутина. Толку от тебя нет. Растяпа. Руки из жопы. Не можешь даже полку прибить».
Он знает, из-за чего это все. Из-за того, что он скучный интроверт, который так и не смог стать нормальным военным. Отсиделся на радиоточке, где, пока другие умирали, были книги под морзянку. Там он рисовал лошадей, пил чай, читал. Ему вообще не нужен был никто. А Ленку он просто спас, когда ее, дуру, на счетчик поставили нерусские, все заработать в институте хотела, повелась на одну схему с продажей обуви, выступила перед покупателем как продавец. А потом – ни товара, ни денег. Вот и таскали ее по судам, заплаканную пигалицу, а он помог, отмазал. Вот тебе и семья. «Я благодарность с любовью перепутала». Неудачник.
И, конечно, знает он, что Лена эти летом, пока он был в командировке, стала встречаться с приезжим соседом. Этот Николай, он ей куда интереснее. Весёлый, разговорчивый, шустрый и рукастый, с нагловатой пружинистой походкой физкультурника.
– Эй, сосед! – кричит он из открытого окна напротив, – Что, уехали?
– Отвали.
Николай разминает бычью шею, резко дергает головой и отходит от окна. «Кусок мяса» – думает папа.
Дома наши отделяет только маленький заборчик, а так – один двор на двоих, огород и тот разделен вытоптанной от калитки дорожкой.
Стоит перед глазами нахальная улыбка Николая, его ровные, как кубики сахара, белые зубы. Красная рожа, выгоревшие на солнце соломенно-желтые волосы, крестик на широкой груди в тельняшке. Так бы и повозить этой мордой по ребристому забору, там, где еще прошлым летом не удалось вырастить виноград. Саженцы зачахли и превратились в клубки ломких веток, в пустые гнезда.
Отец решает занять себя работой – пинает виноград, рыхлит под ним землю ботинками, и сухие палки сами отрываются от корней. Он складывает лозу в кучу на заднем дворе, туда же отправляет забытую мамой коробку со шторами и халатами, чиркает спичкой, и пирамида старой жизни тут же схватывается жадным пламенем, подгоняемым степным ветром, чернеет, коптит и режет глаза.