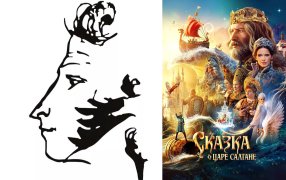Текст: Платон Беседин
Кристиан Крахт – швейцарско-немецкий писатель, широко переведённый и весьма любимый в России. Его если и не читают, то как минимум о нем слышали. Более того, у него есть качество – пожалуй, довольно редкое для прозаика – вдохновлять коллег-современников, сподвигать их к написанию собственных текстов. Обманчивая лёгкость произведений Крахта, в которых всё разворачивается скорее не на страницах книг, а в сознании читателя – одна из характерных авторских черт. В качестве второй составляющей я бы выделил недосказанность его прозы. Говорят, что ею блестяще владел Хемингуэй. Недосказанность в прозе Крахта иного рода, но так и должно быть, ведь она учитывает дух времени, zeitgeist.
Кристиан работает с pretty little things, которые вроде бы находятся на поверхности, но на самом деле проросли внутрь настолько глубоко, что требуется солидный запас терпения, дабы добраться не до сути даже, но до того, что в реальности хотел артикулировать автор. Так устроены – с разной долей успеха – практически все книги швейцарского писателя. Во всяком случае, прочитанные мною «1979», «Мёртвые», «Метан», первый роман «Faserland» и последний на сегодня его текст «Евротрэш».
И чувство это, что говоришь с нестареющим, только подбирающимся к среднему возрасту мужчиной, неизменно, оно никуда не уходит, хотя между романами «Faserland» и «Евротрэш» – двадцать шесть лет. «Жизнь прожить – не поле перейти», – любила повторять моя бабушка, и я не знаю, как преодолевал эти километры-годы Крахт, но в прозе он сумел сохранить не только свою интонацию, но и внутреннюю, я бы сказал, идентичность.
«Евротрэш» (2021) – сиквел дебютного романа автора «Faserland», появившегося в 1995 году. Обе книги переведены на русский язык и вышли в издательстве Ad Marginem. Аннотация подчёркивает, что всё продолжается там же, где в своё время закончилось для героя-автора чуть менее тридцати лет назад. Когда я говорю героя-автора, то делаю это вполне сознательно, потому что отделаться от ощущения (хотя надо ли?), что перед нами очередной автофикшн, где писатель препарирует свою жизнь, говоря о себе любимом, невозможно.
Автофикшн сегодня пишут многие (в таких случаях говорят: все, кому не лень), ведь кажется, что это довольно легко и эффективно. Ты просто фиксируешь свои наблюдения, переживания, эмоции, мысли. Стиль тут, как правило, становится заложником того, что происходит в авторском сознании – в нем сквозит некоторая небрежность, перемешанная с цинизмом и желанием казаться глубже, умнее. И что есть дебютный роман Крахта «Faserland»? Казалось бы, рассказчик просто перемещается между немецкими городами, подмечая их отличия, посещая рейв-вечеринки и сборища маргиналов, общаясь с представителями так называемого «потерянного поколения». Сколько мы уже читали подобного? Однако это лишь очередная обманка от Кристиана Крахта.

У него, пусть и в меньшей степени, есть умение, характерное для прозы Эдуарда Лимонова: рассказчик-герой становится фокусирующей линзой, через которую воспринимаются события, обстоятельства вокруг – и зачастую воспринимаются они по-новому только из-за личности автора. Другой вопрос, что и масштаб, и жизненный опыт Крахта, на мой взгляд, и рядом не стоят с лимоновскими. Но Кристиана спасает его феноменальное внимание к деталям, а затем и умение объединить их, тем самым создавая цельное полотно.
Расшифровывать его, понимать и познавать можно, на первый взгляд, по хорошо узнаваемым меткам масскульта: бренды одежды, названия песен и групп. Для читателя, погружённого в современную массовую культуру, это в любом случае весьма любопытный опыт прочтения. Брет Истон Эллис проворачивал похожий фокус в своём великом романе «Американский психопат», но там он связывал власть капитала, расфасованную по брендам, с насилием и одиночеством. У Крахта остаётся и высвечивается преимущественно одиночество – причём кальвинистского толка. Но помимо современного масскульта Кристиан, несомненно, переписывает классические произведения для нового времени.
Это и отличает его от многих других адептов автофикшна, возвышает над ними. Крахт действительно владеет материалом и умеет связывать не только географические точки, но и эпохи. Путешествие по немецким городам в романе «Faserland» – это, конечно же, в том числе и хождение по кругам если не ада, то инфернального подсознания. Крахт пишет намеренно небрежно, скрывая, а не выпячивая, и это тоже прием, метод, свой ум прозаика. В его романах важен не его собственный опыт, а опыт, накопленный до него, который необходимо не только осмыслить, но и сделать доступным. Поэтому картины Босха и сюжеты из них здесь зашифрованы в девчонках из немецких пивных.
Да, кто-то скажет, вслед за Борхесом, что сюжетов в мировой культуре всего четыре. К «Евротрэшу» как раз прилагается эпиграф от Великого Слепого – желчно-саркастичный и довольно неприятный выпад в сторону Германии. Это задаёт тон всего текста – очень небольшого, как и все произведения Крахта. Он вообще немногословен и берёт читателя в первую очередь концентрацией текста – не только и не столько стилистической, сколько смысловой: каждая деталь здесь должна нести свою концептуальную нагрузку.
Когда герой «Евротрэша», в котором действительно немало от самого Кристиана Крахта, едет вместе с матерью смотреть эдельвейс, то это сразу же отсылает нас и к германо-скандинавской мифологии, и к нацистским дивизиям. В «Евротрэше» вообще много преодоления через осмысление нацистского прошлого – не только в семье рассказчика, но и в Германии, в Европе как таковой. Однако фашизм здесь – это не только наследие Гитлера и Розенберга, но и само по себе подавление, презрение к инаковости. Мы видели это и в «Faserland», где новые наци организовывали гомосексуальные лагеря для представителей «белой расы».
То, что выстроено по законам road movie, когда двое едут куда-то, путешествуя, вспоминая себя, ища ответы в прошлом, на самом деле, конечно же, увлекательное путешествие, но в первую очередь путешествие по персональной и коллективной памяти. “Fortune, fame, mirror vain, gone insane, but the memory remains…” – пел Джеймс Хетфилд примерно в то же время, когда вышел дебютный роман Крахта «Faserland». Там герой посещал приятелей и знакомых – тусовался, страдал. Брал плачущих вертеров нового века на краю озера за руку. Теперь в «Евротрэше» герой приезжает к престарелой матери, находящейся в лечебнице. Обычно он навещает её один раз в два месяца, но тут она вызывает его сама – и они отправляются в путешествие, сняв большую сумму со счёта. Здесь герой Крахта также станет утешать, но уже других и уже иначе.
Мать героя испражняется в специальный мешок, который нужно постоянно менять, и отныне это предстоит делать сыну. Она, вопреки возрасту, остра умом и так же остра на язык, постоянно запивает таблетки водкой и любит слушать истории единственного наследника, который, рассказывая их, по факту черпает из пространства вариантов сценарии альтернативной Европы. И, конечно, расхожее выражение «старушка Европа» сквозь призму последнего романа Крахта необходимо понимать буквально. Мать главного героя – это и есть Европа, вложившая деньги в акции оружейных концернов, состоящая в родственных связях с убеждёнными нацистами и разбогатевшими пролетариями, мечтавшими стать буржуа. Европа постаревшая, тогда как в «Faserland» мы видели Европу взрослеющую. Как тут не вспомнить, что некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть.
Крахт, конечно же, говорит иносказательно, однако подлинная трагедия, опять же, разворачивается в деталях. Это путешествие сына и матери (его можно и нужно читать, в том числе, именно так), но это же и погружение в европейскую историю XX и конца XIX века. Точно так же было и с «Faserland». Погружение очень выверенное, не предназначенное для создания шокового эффекта, а скорее ностальгическое, и ностальгия здесь, как это часто бывает, становится средством от одиночества. Есть ли диагнозы, прописаны ли они, как сказала бы критик старой школы? Безусловно – и Крахт в них одновременно циничен и сентиментален.
Однако в первую очередь «Евротрэш» — это, как и многие другие романы Крахта, текст о преодолении. О преодолении не только километров, не только непонимания между сыном и матерью, между «золотым мальчиком» и его окружением, но и общего прошлого, которое никуда не ушло, которое держит намертво, и призраки его вполне материальны. О классовом преодолении Крахт пишет тоже (не скажу борьбе – именно о преодолении) – но с ним получается сложнее всего. Некоторый успех здесь проглядывает лишь в рассказах, поданных сыном матери в качестве обезболивающего. В конце концов ощущение своей принадлежности к тому или иному классу оказывается важнее, чем изначальная детерминированность им.
Главная же черта романов «Евротрэш» и «Faserland» – это чувство растерянности от столкновения с другими и с Другим (буквально по Лакану). Преодолеть его за тридцать лет герою-рассказчику, похоже, так и не удалось. Однако он смог приблизиться к осознанию того, что преодоление это необходимо. Более того, он даже увидел и сформулировал для себя некоторые его методы и механизмы. И это – то самое, что лично мне интересно в романах Кристиана Крахта в первую очередь. Оно резонирует и с внутренним состоянием, и с рушащимся миром вокруг.