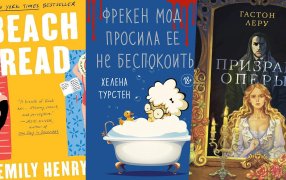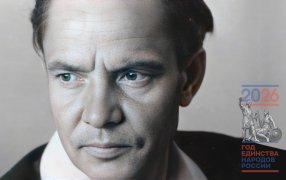Зачем, собственно, нужен журнал «Перевод», когда мы все уже много-много лет знаем журнал «Иностранная литература»?
Наталия Азарова: Времена меняются, меняется культурная система. Она требует совершенно нового формата и нового подхода. Никто не отменяет «Иностранной литературы», у нее есть свой круг читателей, – те самые, которые были когда-то и которые продолжают читать этот журнал. Но, не в обиду будь сказано, молодых читателей у него не так много. И, соответственно, нужен новый формат.
И чем же отличается журнал «Перевод» от журнала «Иностранная литература»?
Наталия Азарова: Я бы сказала – всем. Во-первых, у нас в журнале «Перевод» нет прозы. Тексты с продолжением от номера к номеру, печатавшиеся традиционно в толстых журналах, – мне кажется, для современного восприятия это уже абсолютно невозможно. Есть интернет, и человек привык сразу охватывать взглядом весь текст.
Но зато у нас есть переводы философии, и мы стараемся переводить с разных языков, в том числе те статьи, которые современные философы пишут специально для нас.
Далее, мы делаем препринты разных издательств. Но мы договорились сотрудничать и с журналом «Иностранная литература»: чтобы мы что-то давали им из нашего современного, актуального материала, а «Иностранка» делилась некоторыми текстами их давних, любимых переводчиков.
Но главное – наш журнал сосредоточен на поэзии. Как старой, так и новой, современной поэзии, где мы используем технику poet-to-poet translation, когда поэты взаимодействуют непосредственно с поэтами. Далее, охват языков. Я не знаю, откуда возникла в Советском Союзе такая неизбывная любовь к Англии, но переводы с английского явно доминировали.
Главред ИЛ Александр Ливергант – известный англицист.
Наталия Азарова: Да, конечно, но она идёт не только от Александра Яковлевича. Если мы возьмём вообще всё это поколение, у них было общее увлечение Англией, которое возникло скорее благодаря Агате Кристи и Конан Дойлу. Создавался некий идеальный образ старой Англии, которой, конечно, не существовало в реальности. Ну и плюс английские спецшколы. Я сама училась в английской спецшколе – мы уже в восьмом классе начинали читать Шекспира и Чосера в оригинале, а потом Хемингуэй и так далее. Понятие «иностранный язык» по умолчанию долгое время подразумевало «европейский язык». Я, пожив какое-то время в Америке и в Европе, поняла, что такой евроцентризм – это очень замкнутый взгляд и на язык, и на философию языка, и на культуру, и на задачи перевода.
Очень интересно и то, что происходит в арабском мире. Но кроме того, заслуживающую внимания поэзию нам демонстрируют и такие страны, как Иран, а сейчас, например, мы открываем поэзию Филиппин. То есть то, что раньше для переводчиков в какой-то мере было «негритюдом», чем-то экзотическим и необязательным, воспринимается как абсолютно не вторичное.
У нас в каждом номере есть раздел «Страна перевода», в первом номере это была Венесуэла, во втором – Алжир, в третьем – Турция, в четвертом – Сербия. Это примерно треть журнала. Хотя вообще-то, в отличие от традиционных толстых журналов, у нас нет обязательных рубрик. Когда журнал выходит, всё равно каждый будет читать то, что хочет, и в том порядке, в котором хочет. Мы не придерживаемся строгого формата размера рубрик, их расположения и наполнения. Обратное приводит к тому, что прекрасный интересный материал не попадает в ту рубрику, которая уже была заполнена, а ту, где были лакуны, приходится заполнять наспех, чтобы номер вышел вовремя. Этого у нас нет. И этим мы тоже отличаемся, я надеюсь, в хорошую сторону. В общем, мы примерно всем отличаемся.
А еще – тем, что ваш журнал многоязычный. Слева оригинал, справа перевод. Причем это правило распространяется на редкие (среди русских читателей) языки – китайский, тибетский, сербский… Как вы мотивируете такую позицию?
Наталия Азарова: Если начать с конца – очень важен дизайн текста.
И какие-то иллюстрации, картинки уже кажутся смешными. Это превращает текст в комиксы. Тем не менее, оригинальный визуальный образ текста дает ощущение достоверности, а кроме того, большая часть наших поэтов придерживается современного принципа эквилинеарности перевода. То есть Аполлон Григорьев может себе позволить перевести девять строчек Гёте своими одиннадцатью, а современный переводчик скорее всего нет. И это очень видно в билингве.
Затем, в билингве очень важно, что мы читаем именно перевод. Чтобы сохранялось такое ощущение. Ну, например, раньше какой-нибудь поэт говорил: «Мне нравится Лорка». А ты читал Лорку? «Да, читал, конечно!» А ты знаешь испанский? «Нет, не знаю». Прости, ты читал не Лорку, ты читал перевод Лорки! Вот билингва это и подчёркивает: слева у нас оригинал, а справа ты читаешь перевод. Который воспринимается как некий особый формат текста.
Испанский философ Ортега-и-Гассет считал, что перевод – отдельный жанр. Сейчас мы не используем слово «жанр», я считаю, оно устарело. Мы говорим «формат». И этот формат позволяет, это уже моё определение, осуществляться циркуляции разных версий текста на равных правах. То есть текст существует не в единственном, а как бы во множественном числе. И ты читаешь именно перевод. Но это ведёт и к тому, что возрастает престиж переводчика. Мы знаем, чей это перевод. У нас переводчик выносится не в конец текста, не где-то маленькими буквами, его имя фигурирует вместе с именем автора.
Здесь стоит повторить не раз цитировавшуюся мысль Вальтера Беньямина, что оригинал возрастает вместе с увеличением количества переводов. Вот и мы не заменяем оригинал переводом – он продолжает жить, продолжает циркулировать в культуре, возрастая в ней.
По поводу циркуляции. Заявленный тираж журнала «Перевод» – 300 экземпляров. Как журнал существует с точки зрения материальной, экономической?

Наталия Азарова: 300 экземпляров – это, конечно, мало, и они сразу расходятся. Но есть еще образовательная миссия. Поэтому в Сеть журнал выкладывается практически сразу, и он должен быть доступен бесплатно. В этом смысле проект не отличается от нашего проекта учебника «Поэзия», который много раз переиздавался и продается в бумажном варианте, но тем не менее мы сразу выложили её в свободный доступ.
Как журнал существует в смысле финансовом – в основном на энтузиазме. Но у нас есть спонсор: галерея «Île Thélème», которой мы очень благодарны, оплачивает печать, помогает с презентациями и обеспечивает сайт, что очень важно.
Это прекрасно! Но для журнала, публикующего переводные произведения, помимо обычных проблем литературного журнала, существует болезненный вопрос отношений с зарубежными правообладателями. Как вы эту проблему решаете? Я уточню: вы платите гонорары авторам и переводчикам?
Наталия Азарова: Нет, так как мы не можем сейчас покупать права, нам их дают бесплатно. Мы – независимый журнал, и это очень важно, что мы независимы, но это значит, что вся редакция (Кирилл Корчагин, Михаил Бордуновский, Юлия Дрейзис и я) работает бесплатно.
Я 10 лет назад брал интервью у создательницы журнала «Носорог». И она мне сказала, что они не платят авторам, но платят техническим работникам, корректорам, верстальщикам и т.д.
Наталия Азарова: У нас замечательные дизайнер Андрей Бондаренко, верстальщик Стас Валишин и корректор Маргарита Каганова – да, конечно мы им платим, но только им. Я вспоминаю статью Ленина, «Партийная организация и партийная литература», помните? «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель?» Так вот, мы свободны.
Что ж, давайте еще о творческой свободе. У вас публикуются перепереводы. Зачем?
Наталия Азарова: Есть разное отношение к перепереводу. Есть много понятных аргументов «против»: зачем снова переводить, если у нас есть классический перевод, канонический перевод? Но аргументов «за» гораздо больше.
Во-первых, каждое поколение может осмысливать классика заново. Например, переводя Ду Фу, я использую абсолютно современные техники. Мы достигли того, что можем совершенно по-новому подходить к китайской поэзии и по-новому видеть ее. Мы абсолютно свободны в архаизации текста или, наоборот, в его модернизации. Это сейчас выбор поэта, который может делать и так, и так. Раньше текст искусственно архаизировали, и это было смешно. Почему поэта VIII века мы переводим стилем Кольцова, стилем XIX века? Если между поэтами всё равно тысячи лет, почему тогда не переводить стилем XX-го или XXI-го? В VIII веке в России не было поэзии, поэтому можно переводить абсолютно современно. Но современность — это тоже понятие неоднородное, оно так же меняется, и это обусловливает необходимость переперевода.
Второе – актуальность. Актуальность того или иного автора меняется. Мы можем допустить, что какой-нибудь автор актуален сегодня, но через 20 лет он не будет настолько интересен, а через 50 опять станет актуален. Мы можем заметить в оригинале то, чего раньше не замечали. Например, я считаю, что любимовские переводы Сервантеса безнадежно устарели, потому что он прочитывает «Дон Кихота» как непрерывный нарратив, не учитывая, что это барочный роман, уничтожая бòльшую часть двусмысленностей и, наоборот, привнося какой-то элемент нарочитого балагурства, а это более чем серьёзная литература барокко! Тем не менее,
И, конечно, если бы у меня было две жизни, я бы сейчас взялась за новый перевод Сервантеса.
Требуется, безусловно, новый перевод, когда мы говорим о таких великих текстах, как Дао дэ цзин. Существует около 100 переводов Лао-цзы. Его даже Толстой переводил. И тем не менее, эти переводы можно продолжить, потому что текст, который позволяет многослойную трактовку, может переводиться бесконечно.
Но самая интересная мотивировка переперевода – это то, что перевод сам по себе операция удвоения. И эта операция может быть продолжена. Это максима переперевода.
Вы упомянули о принципе poet-to-poet translation, поэты переводят поэтов. А бывают ли ситуации, что вы сами обращаетесь к здравствующим русским поэтам: «мне кажется, что вот это тебе подойдет, не хочешь ли перевести»?
Наталия Азарова: Такая ситуация бывает примерно всегда. Наша задача – переформатировать поле перевода, чтобы у нас стали переводить не переводчики, которые иногда неудавшиеся поэты, а наоборот, удавшиеся поэты, которые ранее почти никогда не переводили или переводили от случая к случаю. Мы смотрим, какой поэт близок либо по своей поэтике, либо по лирическому субъекту, к тому, что мы сейчас делаем, кого готовим в очередной «стране перевода».
Следующий напрашивающийся вопрос – это отношение к переводу с подстрочников. Вы говорите «европоцентризм». Ну так ведь переводили с тех языков, которые знали. А у вас сейчас как?
Наталия Азарова: Это вообще очень интересная тема – составление подстрочников. Мы знаем, кто переводил с подстрочников, но мы абсолютно не знаем, кто составлял эти подстрочники. У меня была мысль как у ученого предложить кому-нибудь из аспирантов тему подстрочников советских времен: как они составлялись, кто их составлял. Подстрочник – это было очень большое искусство.
Что сейчас изменилось? Во-первых, мы всех, кто делает подстрочники, упоминаем в тексте, то есть мы пишем: «перевод сделан таким-то поэтом при участии такого-то». Это очень важно. Во-вторых, подстрочники делают в основном лингвисты, и, как правило, в контакте с поэтами. Современный поэт не просто получает готовый подстрочник на неизвестном ему языке, но он может пообщаться с живым поэтом, хотя бы через английский, задать вопросы и/или послушать его чтение, услышать ритм стиха, так и с автором подстрочника, а еще он обязательно получает текст в оригинале и видит его графику и те знаковые соответствия, которые заметны даже без знания языка. И еще очень важно, – перевод перестал быть бинарной оппозицией, и поэтому сейчас в какой-то мере стал легче, потому что тексты циркулируют не только в оригинале: как правило, есть переводы на другие языки. Например, арабские поэты часто переведены на французский, многие индийские поэты переведены на английский, – занявшись переводом, ты обращаешься не только к подстрочнику, автору и оригиналу, но и к этому миру всех языков.
В таком случае – модный вопрос 2025 года. О самой возможности и степени участия в поэтических переводах искусственного интеллекта. Раз вы толерантно относитесь к переводам с подстрочника, то как вы относитесь к переводам с участием нейросетей?
Наталия Азарова: В принципе, искусственный интеллект переводит хорошо. И что касается обычного текста, здесь, наверное, нужны курсы редактирования, а не курсы перевода. Зачем делать ту работу, которую действительно может сделать искусственный интеллект? Так что в этом смысле отношусь положительно. Что же касается поэзии, здесь тоже может помочь искусственный интеллект. Например, можно задать ему перевести каждое слово отдельно во всех словарных его ипостасях. Я так делаю с китайским текстом. А вот когда он начинает связывать слова в строки – это, конечно, не получается – особенно если это серьёзная поэзия. Но если это какая-то пространная нарративная поэзия, – можно дать искусственному интеллекту сделать перевод и использовать его в работе как один из небинарных вариантов, почему бы нет? Вдруг он там что-то заметит, что незаметно в подстрочнике. Потом решение принимает, конечно, поэт-переводчик, но использовать сегодня эти возможности как подручный материал, я думаю, конечно, можно и нужно.
Тогда последний вопрос технический. Когда выйдет следующий номер журнала? Какая будет страна перевода?
Наталия Азарова: Выйдет он в сентябре, страна перевода будет Сербия, и в сентябре же будет презентация в самой Сербии. Вот, и выйдет в сентябре. Следующий за ним номер будет посвящен Ирану и выйдет к non/fiction, а в марте страной перевода будет Перу.