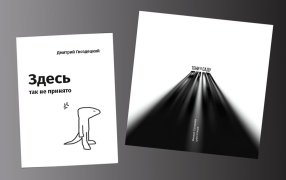Текст: Марианна Смирнова (канд. филос. наук)
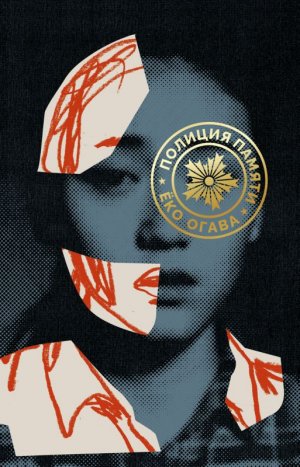
В издательстве «Поляндрия» вышло переиздание романа Ёко Огавы «Полиция памяти», написанного в девяностых, но на западном рынке блеснувшего лишь пятнадцать лет спустя (шорт-лист Букера 2020 г. – в том же году и был впервые издан «Поляндрией» на русском). Аннотация на обложке рекомендует «Полицию памяти» всем, кому близки Джордж Оруэлл, Рэй Брэдбери, Кобо Абэ и… «Страна Чудес без тормозов и Конец Света» Харуки Мураками. Набор отсылок заставляет заподозрить в романе очередную антиутопию, которых и так уже больше, чем разновидностей тоталитаризма.
Зря! От Мураками здесь гораздо больше, чем от Оруэлла. И, хотя книги в романе Огавы горят при тех же градусах по Фаренгейту, что и у Брэдбери, никакая это не антиутопия. И даже не социальная сатира. Я бы назвала этот жанр клаустрофобическим островным сюрреализмом. Почему клаустрофобическим? А потому, что островным.
Остров как жанр
Японская литература интровертна, ее герои – островитяне. Чтобы попасть в иные миры, они не идут за тридевять земель, снашивая по пути три пары железных башмаков, а проваливаются в разнообразные кроличьи норы: спускаются в метро, лезут в колодцы, засыпают рядом с муравейником, как герой известной японской сказки, и – высшая степень интровертности – замыкаются внутри собственной головы. Ёко Огава довела эту особенность до предела и написала роман, похожий на сужающийся тоннель. Для сравнения – возьмите не так давно опубликованный на русском роман Янь Гэ «Странные звери Китая», о котором мы недавно писали. Тоже сюрреализм, тоже весьма жестокий, но нет ощущения, что застрял в железной трубе, а есть ощущение огромного, яркого, безжалостного мира.
На оторванном от большого мира острове живут обычные люди, чья жизнь состоит из мелочей. Из пролетающих над головой птиц. Из пары капель любимых духов на волосы перед выходом. Из кораблей, гудящих в гавани. И все эти вещи понемногу… исчезают, выветриваясь заодно из человеческой памяти. Сегодня все забудут о розах. Завтра о птицах. Послезавтра о кораблях. Мир неумолимо сужается, уменьшается, упрощается. Некая невидимая сила сметает с лица земли то, что должно исчезнуть. Остальное довершают сами островитяне, безропотно сжигая памятные вещи, выкидывая в море собственное прошлое. С этим бессмысленно бороться – даже если сохранить вещицу, которая уже исчезла, она потеряет для тебя всякий смысл. Ты и название-то ее вряд ли сможешь вспомнить. Не говоря уж о смысле и предназначении.
Конечно, попадаются люди, которые помнят все. За ними охотится полиция памяти, их прячут неравнодушные друзья и соседи. Главная героиня, молодая писательница, укрывает от полицейских облав своего редактора – он, к своему несчастью (или счастью?), не умеет забывать. Облавам, обыскам, сожженным фотографиям отведено в романе довольно много места. Но чем ближе развязка, тем отчетливей ощущение, что роман только маскируется под социальный. И более того: его герои теряют вовсе не память. А что же?
Кафка, Оруэлл и Брэдбери нам здесь не помогут. За ответом – к Харуки Мураками. Он пишет о внутренних реальностях, даже когда имитирует триллер, детектив или киберпанк. Огава делает то же самое, только куда более безрадостно. Понятийный ряд – не идентичный, нет. Но близкий.
Русскоязычного читателя с романом «Страна Чудес без тормозов и Конец Света» познакомил Дмитрий Коваленин. «Полицию памяти» переводил тоже он – тем же легким, непринужденным, чуть печальным слогом. Фирменным коваленинским слогом, которым изъясняются все герои Мураками. Точнее, один-единственный герой: странствующий из романа в роман безымянный «я».
В «Стране Чудес» этот самый «я» обеспечивает себе безбедную жизнь нетривиальным образом: работает флешкой со встроенным шифратором. Данные, которые перегоняются через его мозг, невозможно перехватить, украсть. В общем, японский Джонни-Мнемоник (герой одноименного рассказа Уильяма Гибсона). Весь этот вторичный киберпанк служит внешним обрамлением для психоделического внутреннего сюжета.
«Роман, который вы держите сейчас в руках, я закончил в 1985 году. В его основе – небольшая повесть «Город с призрачной стеной», написанная за пять лет до того», – сообщал Мураками в предисловии к русскому изданию романа. Исходная повесть была опубликована в Японии, но автор ее остался недоволен собственным текстом. Понадобилось несколько лет, чтобы выкристаллизовался новый замысел – выстроить сюжет на сопоставлении двух взаимоотраженных миров: внутреннего и внешнего.
Первая реальность «Страны Чудес без тормозов» – это «Джонни-Мнемоник» и кафкианско-кэрролловский бред с длинноногими библиотекаршами, толстушками в розовом и путешествиями по токийской подземке, где шныряют зубастые жаббервоги. Вторая реальность романа – безымянный Город, окруженный со всех сторон непроницаемой стеной. В нем странные звери, похожие на единорогов, умирают по осени, надышавшись нашими ядовитыми снами. Люди в Городе теряют свою тень. И память. Не правда ли, прямое сходство с «Полицией памяти»? Ведь ее герои тоже утрачивают воспоминания. Но и у Мураками, и у Огавы речь идет о чем-то более важном, чем память. Более сущностном.
Так как же вы, монахи, это назовете?..
В поисках слова
Работая над переводом «Страны Чудес без тормозов», Коваленин столкнулся с любопытной терминологической проблемой. Беспамятная героиня романа просит нашего Джонни-Мнемоника: «Найди мне меня». В оригинале она просит найти ее «кокоро». То, что чаще всего переводят на русский как «сердце». Но термин-то куда многозначней! В сборнике эссе «Суси-нуар: занимательное муракамиедение» Коваленин приоткрывает свою переводческую кухню, размышляя, как лучше передать на русском неуловимое «кокоро». Душа? Сердце? Память? Все не то…
Вот! Это и есть то неуловимое, что теряют герои «Полиции памяти» вместе с воспоминаниями.
Коваленин свою переводческую задачку в итоге решил чисто по-японски: через умолчание. «Просто я понял: лучший способ перевести это слово – вообще его не переводить». Верное решение. Но в случае с Огавой я рискну озвучить, как называется утраченное героями эфемерное нечто. Это связь. Связь с миром.
Есть расхожее мнение, что человека создают исключительно события его жизни. Утверждение было бы верным, если бы каждый ребенок рождался чистым листом. Но это не так. Не имеет смысла надрывно вопрошать: «Кто мы без своих воспоминаний?» Мы – это мы. До тех пор, пока мы способны любить мир и удивляться ему.
Именно эту способность теряют жители острова. Им бесполезно совать под нос вещи, хранящие память о детстве и ушедших близких: флакон маминых духов, губную гармошку… Там, где у нормального человека вспыхнет тоска и радость, у этих ребят происходит обрыв связи. При этом они (как и обитатели Города с единорогами) хорошие люди. Рискуя жизнью, укрывают у себя «памятливых» друзей и коллег. Они теряют не совесть, а то, что дает человеку силы действовать, а не только наблюдать жизнь изнутри собственной головы. И когда этот источник иссякнет, спасать других и себя станет попросту нечем.
Оптимисты и пессимисты
«Страна Чудес без тормозов» могла бы производить на читателя такое же удручающее впечатление – однако не производит. Хотя у героя Мураками проблемы похлеще, чем у наших забывчивых островитян: он узнает, что вместе с шифровальной программой в его сознание внедрена команда «выкл». Это означает, что обратный отсчет пошел, и в ближайшем будущем наступит его личный, персональный Конец Света. Совершенно неизвестно, как это будет выглядеть снаружи: кома, внезапная остановка сердца, летаргия, ступор? Обратимо или необратимо это состояние? Зато изнутри все прозрачно: герой принимает решение остаться в Городе-за-стенами. Там – мир его души. Там девушка, которая просила вернуть ей ее «кокоро»…
В общем, концовку обоих романов – это спойлер! – можно охарактеризовать фразой: «Ушел в себя, вернусь не скоро». Почему же послевкусие такое разное? Может, и финалы не такие похожие, как кажется? Бинго.
Мураками дает своему герою выбор – сбежать или остаться. И своим решением в пользу внутренней реальности тот утверждает: реальны оба мира, реальны все миры. Ты не помнишь, откуда взялась твоя привязанность к девушке из Города. Ты не помнишь, откуда ты сам. Но ваша связь реальна, пусть даже нереален окружающий вас Город, пусть даже вы сами – лишь проекции себя-настоящих на внутренней стенке черепа. И, может быть, однажды вы оба вспомните, откуда пришли.
«Страна Чудес без тормозов и Конец Света» заканчивается так:
«И тут я увидел, как в густой, седой метели надо мной проплыла огромная белая птица. Перелетев через Стену, она повернула на юг и растворилась в заснеженных небесах.
И только снег скрипел под башмаками».
И – тут мы покидаем территорию литературы, но остаемся в японском культурном поле – эта концовка живо напоминает аниме-сериал «Союз серокрылых». Действие его разворачивается в Городе-за-стеной, похожем на уютный лимб; подозреваю, режиссер тоже читал Мураками. Для «серокрылых» этот лимб – даже не посмертье, а междужизнье. Каждый из них в свой час покинет Город, но до той поры взять стену штурмом нельзя, невозможно. Зато ее легко перелетают птицы – и это обещание освобождения, разомкнутого круга.
Два года назад в Японии вышел новый, на данный момент последний роман Мураками. Английский перевод его названия звучит так: «The City and its Uncertain Walls». Да-да. Тот самый Город-за-стеной, где люди теряют свою тень! В первой версии истории герой все-таки покинул Город. Во второй – остался, но мы не знаем, что с ним будет дальше.
Посмотрим, перелетит ли птица через стену на этот раз.