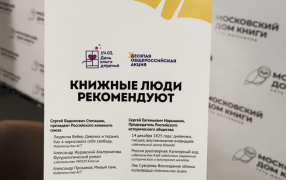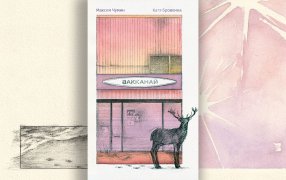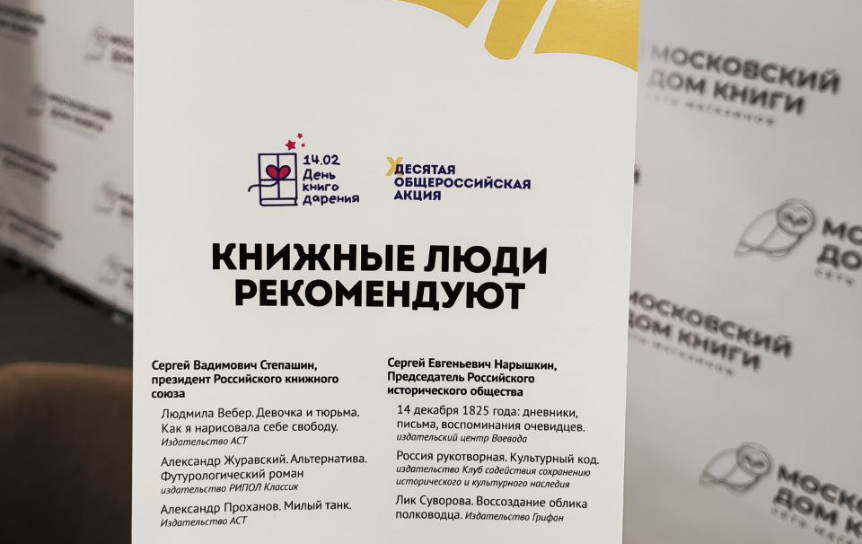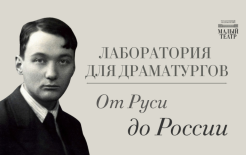Текст: Юлия Савиковская
Начали разговор, конечно, с семьи и детских воспоминаний, связанных с Петербургом. Родившийся и проведший детство в Киеве, писатель вспоминал о своей бабушке, которая любила говорить: “В Петербурге так бы не сказали, в Петербурге так бы не сделали…” И когда мальчику Жене было 11 лет (в 1975 году), он уговорил бабушку поехать в Петербург. Его потрясла Кунсткамера, куда его привела бабушкина двоюродная сестра, работавшая в музее научным сотрудником. Остались рисунки Адмиралтейства, которые были сделаны тогда. Город-музей очень запомнился еще в ту первую поездку. Позже пришло осознание, что литературные герои и писатели, их создавшие, не умирают: когда идешь по Гороховой, вспоминаешь Обломова, по 14-линии – жившего там Ремизова и т.д.
То, что в этом городе тебя встречают жившие здесь люди, Водолазкин прочувствовал на себе, когда принимал участие в проекте “Любовные письма». Смысл его в том, что, скачав приложение и двигаясь по городу, человек слушает письма о любви, написанные в этой локации. Но память места имеет много измерений. Водолазкин рассказал, что тетя Лида (кузина его бабушки) пережила в городе блокаду, во время которой пыталась похоронить труп отца – он был заместителем директора Русского музея и умер в первую блокадную зиму во флигеле при музее, где и жила вся его семья. Его дочь тогда оставила его тело в квартире зашитым в простыню и собирала его карточки, чтобы было чем оплатить похороны – и смогла это сделать. Бабушка Лида постоянно держала у себя кошек, собак, а в конце жизни – голубей, живших прямо в ее квартире. Уважение и любовь к своей двоюродной бабушке Водолазкин пронес через всю жизнь – она стала для него олицетворением духа Питера.
Далее с подачи ведущей, Дарьи Старковой, спросившей, можно ли через тексты подготовиться к встрече с Петербургом или лучше приезжать “с закрытыми глазами”, разговор пошел о восприятии города через слова. Водолазкин заметил, что с закрытыми глазами лучше никуда не приезжать, ведь это наш главный инструмент восприятия. Но, с точки зрения писателя,
После интуитивного движения вокруг присутствия культуры в петербургском человеке зашел разговор о центре и в противовес ему – спальных районах. Конечно, по мнению писателя, «живущий на улице Культуры культурней не становится», но, тем не менее, лучше уехать с самых дальних окраин, с улиц с названиями, в свое время придуманных сотрудницами горисполкома, “кандидатами лженаук, женщинами с искусственным интеллектом”: так в городе появились улицы Хошимина, Дыбенко, Белы Куна и Индустриальные проспекты. С последнего, что в Красногвардейском районе, писатель в свое время поспешил переехать в центр, так как почувствовал, что “это добром не кончится”.
Как коренной житель спальных районов Петербурга (Купчино и теперь Шушары), автор этой статьи не может полностью согласиться с писателем – в каждом микрорайоне формируется своя история и свой микроклимат, но выслушать такую точку зрения о важности центра для самосознания петербуржца было очень интересно. Именно присутствие в центре, рядом с памятниками архитектуры и музеями, помогает, по мнению писателя, подавлять в себе зло, издавна присущее всем нам. И думать, ведь жизнь требует умственных усилий. Несвязанность с культурными памятниками города приводит к душевной жесткости, неразвитости, делению мира на “мы” и “они”, что очень опасно.
Дарья Старкова спросила у писателя, можно ли придумать единый топонимический стиль города. Отвечая на этот вопрос, Водолазкин упомянул, что академик Дмитрий Лихачев предлагал вернуть улицам притяжательные названия – улица Ивановская вместо улицы Иванова. И здесь Евгений Германович перешел к чтению отрывка из своего романа work-in-progress (дописан уже на три четверти), так как этот отрывок напрямую связан с топонимикой.
Роман для писателя вышел неожиданным (по его собственному признанию) и, возможно, получит название “Последнее дело майора Чистова”. Роман — это игра с жанром, скорее всего, придется в начале написать “не детектив”, но элементы игры с детективом и нашими знаниями о нем в прочитанном отрывке были – например, с первых минут появляется рассказчик, от лица которого идет повествование о майоре Чистове (и это может напомнить Ватсона и Шерлока Холмса). В прочитанном было и что-то от Битова и его “Пушкинского дома” (а Евгений Германович сам долго работал в нем), а также приходили ассоциации с сериалом “1703”, где петербургский миф вплетается в рассказ о запутанном уголовном деле.
Действие романа разворачивается в наше время; Петербург – хорошая локация для многочисленных преступлений. Упоминается громкое дело профессора, расчленившего свою любовницу-студентку. Но при этом над самим текстом с самого начала витают литературные духи, присутствуют “мифотворчество и путаница”, приводятся легенды, связанные с Бармалеевой улицей на Петроградской стороне, где и произошло убийство. “Токсичная” фигура Бармалея – то ли живого, то ли литературного персонажа, становится еще одним звеном литературной игры (Добужинский и Чуковский в романе спорят о происхождении имени “Бармалей” – так рождается книга, “на которой мы все воспитывались”) на материале петербургской топонимики.
Параллельно идет анализ самого процесса письма: рассказчик размышляет о том, как писать книгу и что для этого нужно. При этом автор подпускает иронии, приводя как пример для своего автора некого коллегу из отдела, издавшего книгу “Негромкий выстрел” (аллюзия на пушкинские “Повести Белкина” и их рассказчика). Чтобы разобраться с многослойной игрой с мемами русской литературы и истории, читателю понадобится большая доля креативности и знаний, что и важно Евгению Водолазкину – кажется, сознательно загадывающему читателю загадки.
Еще один вопрос Дарьи Старковой был связан с запахами и звуками, которые вспоминает писатель, находясь вдали от города – ведь и герой романа “Авиатор” вспоминает из своей забытой жизни именно запахи. Евгений Водолазкин упомянул запах холодного моря. Оно, кажется, и не присутствует в городе, но запах его есть. Что касается запахов, Водолазкин явил себя «прустианцем», считая, что запахи запоминаются сильнее всего. Каждый регион, каждое отдельное место и каждое время имеет свои запахи. Рассказывая про разные обонятельные ощущения, писатель вспоминал свое путешествие по Волге и Калязинскую колокольню, посещение Китая и Вьетнама, а также поездки на Запад (в Мюнхене запомнился запах моющих средств, а не советской хлорки).
Завершился вечер вопросами зрителей. Спрашивали про спектакль “Авиатор”, поставленный в Татарском государственном театре кукол “Экият” в Казани. Водолазкин рассказал о потрясшей его идее сделать куклу изо льда (делаются сразу две), которая в течение спектакля тает у нас на глазах, и остаются только металлические стержни ее остова. Спросили и про истоки романа – здесь Водолазкин рассказал об одном из своих родственников и книге фотографий о Соловках и своих исследованиях для написания предисловия к ней, упомянув несколько выдержек из прочитанных им документов – и истории самого монастыря, и периода концлагеря. “Авиатор” родился из потребности «вывести эти знания из своего организма», эти факты и документы о будничном, ежедневном зле, шевелящихся трупах и нагих купальщиках в январе. Писателю было важно передать процесс расчеловечивания, процесс раскрытия того зла, которое есть в каждом человеке – этот очевидно “достоевский” вопрос волнует Водолазкина и по сей день. Хотя понять причины реализации зла – часто спонтанной и непредсказуемой – он не может до сих пор.
Спросили и про кусочек нового романа, который по своей иронии, сарказму и просветительскому элементу напоминает “Чагина” и требует большого уровня начитанности для понимания слоев смыслов, заложенных в него. При этом, несмотря на свою интеллектуальность, роман апеллирует и к молодому читателю – в нем порхают словечки “токсичный”, “жесть”, присутствуют и другие современные элементы. Однако молодежь часто читает классические романы с помощью нейросетей.
Автор согласился, что уровень сложности мысли падает, возможно, скоро мы потеряем придаточные предложения и перейдем на назывные. Но в полное покорение человека искусственным интеллектом писатель не верит. Если цитировать Галича – «”С добрым утром, Бах”, – говорит Бог» – Бог не будет разговаривать с машиной так же, как со своим творением.
Но литература не должна решать все задачи, стоящие перед человеком, она должна фиксировать, называть, чтобы чувство, эмоция, парадокс были зафиксированы через называние и поняты. Сам язык тоже имеет значение – Водолазкина не привлечет хорошая идея, изложенная суконным языком, но поражает что-то фантазийное, необычное, не связанное с реальностью, но хорошо написанное.
Подытоживая, можно сказать, что вечер в отеле “Индиго” позволил собравшимся ощутить ту насыщенность мысли, которая свойственна текстам писателя, и дал возможность порассуждать вместе с ним о роли города в литературе и роли литературы в формировании культуры – как частной, так и общей.