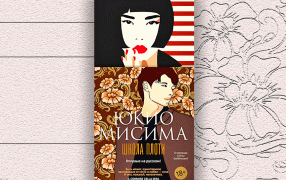Текст: Михаил Визель
При чтении очередного ежегодного выпуска Пелевина переживаешь такую же последовательность эмоций, какая накатывает при ностальгическом посещении концерта любимой с отрочества рок-группы. Поначалу – радость узнавания. Потом даже некоторую неловкость: ты давно стал другим, по-другому одеваешься, слушаешь джаз или барокко, с пива перешёл на хорошие коньяки – а эти мужики, старше тебя на 10-20 лет, по-прежнему в драных джинсах, рубят всё те же аккорды, и даже их новые песни полны того же юношеского задора или тоски, от которых ты давно отвык. И лишь присмотревшись, замечаешь: инструменты теперь дорогущие и с хитрой подзвучкой, драные джинсы на самом деле очень хорошо сшиты точно по фигурам, за которыми теперь бывшие любители прибухнуть тщательно следят. Да и тексты – вроде всё о том, а вроде уже о другом. И лишь сам дух рок-н-ролла остаётся прежним. Если, конечно, мы говорим о настоящих звёздах.
Такое длинное вступление (извиняемое, кстати, снова проходящей через весь роман темой рок-хита – на сей раз это “Stairway to heaven”) нужно для того, чтобы сказать, что Виктор Пелевин, конечно же, был и остается правоверным постмодернистом. Что подразумевает не просто цитатность и то, что сейчас называется пасхалочками, а особое отношение к реальности, при котором присущее классическому роману чёткое противопоставление «правда/вымысел» заменяется вложенными друг в друга, как в матрёшке, уровнями реальности, каждый из которых по-своему реален и до конца не реален. Сейчас, в эпоху автофикшна, фэнтези и «литературы травмы», такая метòда может показаться старомодной – но это фирменный пелевинский подход.
Применительно к данному конкретному опусу, носящему многозначное итальянское название, которое можно понять и как «повернуть налево», и «идти дурным путем» и даже как «ущербная “А”» (ср. Bend Sinister – «Знак незаконнорожденных», первый американский роман Набокова), принцип матрешки реализуется следующим образом. Задана внешняя рама – уже хорошо известный читателям Добросуд, «Доброе государство», очередная итерация государственной системы России в неопределенно-близком будущем; в ней есть предлагающая сильным мира сего вечную виртуальную «баночную» жизнь всемогущая корпорация Transhumanism inc.; в сердцевине ее – «служба безопасности», собственная спецслужба с неопределённо широкими полномочиями; ее глава Ломас, носящий причудливый титул адмирала-епископа, посылает своего лучшего агента Маркуса Зоргенфрея на опасное задание – выяснить, куда пропадают «мировые дигнитарии», высокоуровневые, т.е. очень богатые и влиятельные клиенты корпорации внутри симуляции «Левый путь», – виртуального турбюро, предлагающего им за очень большие виртуальные деньги окунуться в пучину порока – тоже, разумеется, виртуального. Для чего ему самому надлежит отправиться в эту же симуляцию в маске Марко – веронского алхимика и чернокнижника XVI века.
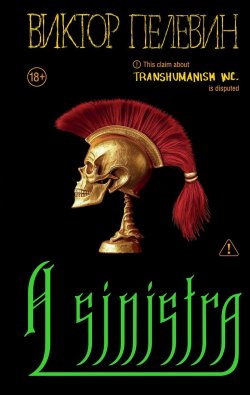
Выражение «в маске» надо понимать буквально. Пелевин справедливо обращает внимание на то, что ускользает от внимания Шекспира в «Ромео и Джульетте»: в XVI веке Верона была подчинена Венеции. Так что упоминаемый Шекспиром герцог Эскал был, в сущности, назначенным губернатором. И тема масок, двойничества, оборотничества, тотального магического карнавала, играет в книге огромную роль. Стражники и герцоги, тайные вожди и явные слуги, красотки и соблазнители, убийцы и чернокнижники, гомункулусы и гримуары – все суть разные магические маски одной единой сути.

Но не стоит при этом забывать, что все эти личины и локусы не более чем наведённые суперкорпорацией виртуальные симуляции – приближенные, но не точно воспроизводящие историческую фактуру. Если в романе карантинного 2020 года «Непобедимое солнце» даже по краткому описанию стамбульской Айя-Софии можно заключить, что физическое тело Виктора Олеговича Пелевина там побывало, то реальное его знакомство с провинцией Венето, выходящее за пределы прогулок по Google-карте, вызывает большие сомнения. Прославленные средневековые города набросаны еле-еле, самыми общими фонами – и даже с нелепой ошибкой: головной убор дожа, знаменитая рогатая шапка (corno ducale – «рог дожа») названа «карно дукале», что не имеет никакого смысла, кроме отдаленного намека на carne – «мясо», «плоть». Но чтобы понять каламбур, читатель должен разбирать по-итальянски, что книга со 100-тысячным тиражом вряд ли предполагает. (Зато, заметим в скобках, предполагает виртуозное огибание всех острых углов на самых рискованных поворотах.)
Едва ли Пелевин не может себе позволить съездить в творческую командировку в Венецию и Верону. Просто ему это не очень важно. Он пишет не исторический роман, а роман идей. Или даже, как это ни странно сказать применительно к записному постмодернисту, роман духа. Больше всего таящегося в нетях одинокого автора, как и его тысячеликих героев, волнует другое: как в предлагаемых обстоятельствах снискать «агапэ» – небесной, духовной любви. То есть, в более привычных христианских терминах, спасти душу – ни больше, ни меньше. Притом что носители этой души вынуждены заниматься мерзкими вещами – буквально и фигурально превращая человеческую плоть в золото, в чем прямо признается герой вставной новеллы, махинатор с пенсионными фондами по фамилии Акурков:
Ответ на вопрос о спасении души не может быть ни прост, ни однозначен. Хотя автор под всеми ухищрениями с гримуарами, тинктурами и т.д. прямо взывает к простоте: «Божий рай, откуда человека выперли, он ведь был из простоты, – поучает Ломас Маркуса во время очередной «пропедевтической паузы» в тугом детективном сюжете. – Она до сих пор с нами. Любое чувство, всякое переживание в своей чистоте, это дар божий».
Как же добиться этой чистоты-простоты? Пелевин, некогда – один из первых в Москве всепогодных велобайкеров, снова обращается к метафоре «духовного велотренажёра» из предыдущего романа «Круть». И уточняет его устройство: вместо «трещотки», позволяющей тренирующемуся отдыхать, держа ноги на педалях, стоящих неподвижно при вертящемся колесе, он снабжен маховиком, продолжающим крутить педали, даже когда сидящий не прилагает усилий. И переводит это механическое устройство в символическую плоскость:
Пелевин всячески дает понять, что он что-то понял. Так ли это, нам не разобрать; но читать его до сих пор интересно.