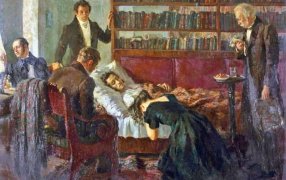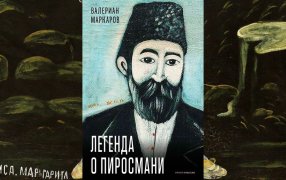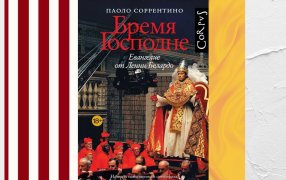Текст: Руслан Манеев
"Я трогаю войну руками" – это успешный литературный дебют Ирины Бугрышевой. Это сборник рассказов о практике массажиста-волонтёра. Ирина занимается реабилитацией бойцов, которых эвакуируют из зоны боевых действий. Она первая встречает солдат после ампутации, успокаивает боль после прекращения обезболивающих, помогает разрабатывать мышцы для протезирования. Ирина работает с телом человека и с текстом войны, и "Год Литературы" задал вопросы о её писательском опыте, в том числе об опыте участия на форуме, где учат "писать о СВО" (мы выяснили, что на самом деле это значит).
Сегодняшняя история вызвала настолько сильный отклик в вашей душе, подняла ваш опыт до ватерлинии книги… Что писала Ирина Бугрышева до начала СВО? Есть ли здесь место для рефлексии? До открытия «вашей темы», может быть, вас преследовали неудачные наброски или черновики – и вы не могли состояться как писатель?
Ирина: Я просто училась писать. Когда я была в Красноярске, село Овсянка, где родился и вырос Астафьев, я прочитала его автобиографическую прозу: повесть «Звездопад», в которой описывается, как он, 19-летний, лежит в военном госпитале, «Конь с розовой гривой», «Фотография, на которой меня нет» – мне всё это очень родственно. Я тоже пишу из своей биографии, обо всём, что только можно.
Есть у меня книга рассказов «Мой Полярный», о моём детстве и юности в городе Полярный (база Северного морского флота). У меня есть книжка под названием «Дневник первоклассницы». Моя дочь такая осознанная и ответственная, и когда она мне стала рассказывать про свои школьные дни, я говорю: это надо записывать. Когда меня не было дома, она наговаривала на диктофон, я приходила – записывала. Книжка вышла в Израиле, её читают в вузах по дисциплине «Психология школьника». «Дневник» рассказывает им про кризис ребёнка 7-8 лет, – бесценный опыт наблюдения девочки за своей жизнью.
Мои рассказы публиковались в сборнике Марты Кетро, публиковались в глянцевых женских журналах. Я не спешила издавать свою прозу. Меня мало кто знал, а надо было вкладываться в редактуру. Я понимала, что когда-нибудь время придёт. «Просто пиши», – говорила я себе. Неудачных набросков как таковых у меня нет, я так не оцениваю свои черновики. Скорее у меня был вопрос: «Мне столько лет: почему нет амбиций издать книгу, притом что она уже написана?»
Знаете, у меня была непростая жизнь. Я понимала, что нужно правильно расставлять акценты. Когда с началом СВО я пошла в военный госпиталь и начала писать, у меня не было никакой мысли про книгу, хотя я уже умела писать, меня читали в Сети.
Задумывались вы о разделении таланта писателя на «его тему» и «навык» написания? Поделитесь размышлением: творчество писателя – плод истории.
Ирина: Мне стало понятно, что я не могу об этом молчать. Тема СВО зазвучала сильнее, чем другие темы в моей жизни. Я ведь сначала занималась реабилитацией своего ребёнка, – но главы из этой истории могли быть интересны только моим знакомым.
Когда в Нижнем Новгороде в дискуссии о современной военной прозе Колобродов и Прилепин говорили, что писателем Юрия Бондарева сделала война, я подвожу себя под общий знаменатель с ним: война вывела меня на новый уровень. Ясно ощутила гражданскую позицию. На наших глазах происходит поворот в истории. Об этом я не могла молчать.
«Я трогаю войну руками» – это книга про то, как я «совпала» со временем и стала писать на нужную тему.
Ирина, есть мнение, что в наше время дебютанты в литературе буквально окружены «спасательными кругами»: творческими семинарами, мастерскими. Расскажите об опыте работы на «Тавриде», где прозаиков обучали «писать об СВО» – и расскажите про саму формулировку.
Ирина: Мастерская проходила на форуме «СВОя культура». Были прозаические и поэтические мастерские. Я была на прозе. Моим мастером был Олег Демидов, по совместительству редактор моей книги. В группе были люди, которые уже издаются. Например, Виктория Татур, детский писатель, Андрей Авраменко из Луганска, Вика Чикарнеева из Ростова (выпускница Литинститута)… Вместе с Яной Ореховой, драматургом из Кемерово, мы написали пьесу «9 марта» – по мотивам моего рассказа.
Был автор, который далёк от «большой» литературы, и, наверное, он не станет писателем. Но благодаря мастерской он довёл свой рассказ о волонтёрской деятельности до пронзительного текста. Он зачитал его со сцены, в зале плакали. На семинарах смогли докрутить его прозу.
Да, некоторые произведения от ребят, которые воевали и воюют, сырые. Но они написаны в окопе, они пронзительные. Окопные стихи.
Общение молодых писателей с ветеранами в рамках таких экспериментальных писательских курсов – компромисс между отсутствием у авторов личной встречи с «темой» и необходимостью в издании патриотических книг?
Ирина: Была автор, которая не связана с темой напрямую. Она писала сцену штурма украинских позиций корейцами. Она подходила ко всем, консультировалась. В итоге написала так, что, можно сказать, получила читательское доверие. Правда, при чтении со второго-третьего раза понимаешь: не хватает в повествовании какого-то важного плана – глубины нет, идёшь по поверхности.
Но для меня без личной встречи с темой не будет произведения. Я собрала материал для своей следующей книги в Керчи, в городе, где есть прилёты, летят дроны, много военных. Убеждена: нужно писать об СВО только то, что переживает человек в прифронтовой зоне. У меня нет никакого компромисса: в ноябре я еду в Курскую область, где продолжу работать в военном госпитале.
«Писать об СВО» – это ведь, предположу, не столько, скажем, про краткий курс по арсеналу НАТО, а про обучение специфическому военному пафосу, интонации?
Ирина: Очень часто говорят, что в моей прозе есть военный пафос. Этого пафоса я сама не чувствую. Это естественное мироощущение, когда я вхожу в палату к бойцам, я чувствую, что мы вместе, что мы победим. Я чувствую… дыхание времени. Писать об СВО – это разрешить себе писать о том, что является самым востребованным.
Сегодняшняя военная проза ценна тем, что победа ещё не случилась, и наши книги будут читать потомки, когда книги ещё не окрашены победой, когда маятник ещё не качнулся в одну сторону восприятия.
Какое ваше отношение к формулировке «патриотическая литература»? Разве может литература быть другой? Или такое название, может быть, вызвано действительностью гражданской жизни: широкая незаинтересованность в теме (при общей положительной динамике), на фоне которой «патриотическая» звучит как вызов?
Ирина: Может быть, это название – противопоставление всему глянцевому чтиву о том, как путешествовать по миру на деньги от биткоина. "Патриотическая литература" – этот ярлык обозначает другой спектр вопросов, пока отличающихся в массовом сознании от общей картины.