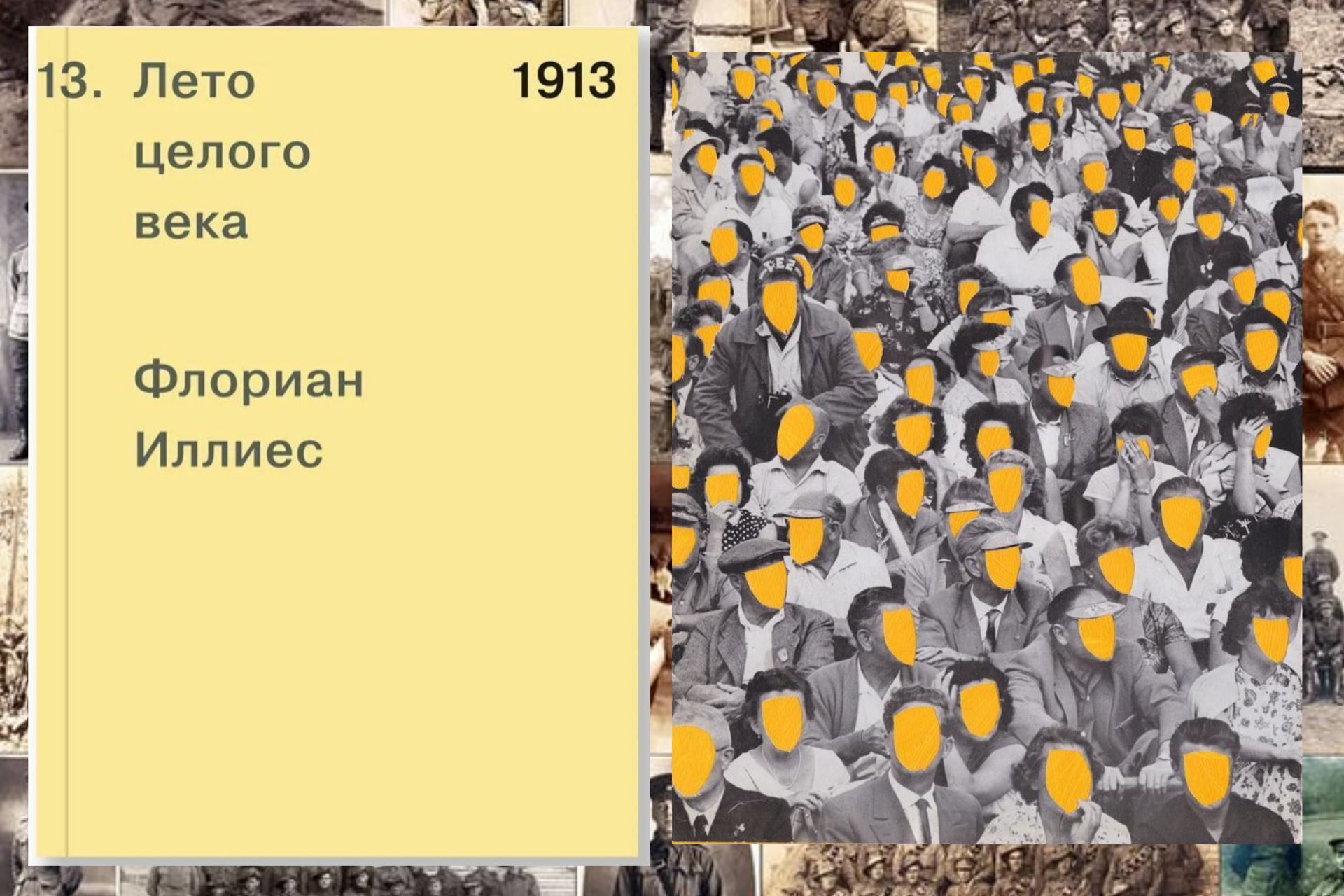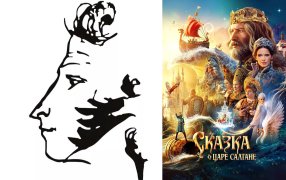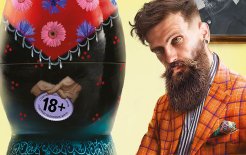Текст: Марианна Смирнова
Флориан Иллиес «1913. Лето целого века». Перевод с немецкого Сергея Ташкенова.
Ad Marginem, М.: 2013. - 272 c.
Историю человечества можно изучать в развитии, т.е. диахронически, а можно взять моментальный снимок, срез эпохи — и продемонстрировать зрителям во всей его мозаичной, парадоксальной красе. Именно это сделал Флориан Иллиес, написав книгу «1913. Лето целого века». На немецком она вышла в 2012 году, русский перевод издательство «Ad Marginem» выпустило годом позже, с тех пор он переиздавался несколько раз. Самое свежее переиздание — 2024 года.
«Лето целого века» повсеместно аттестуют как хронику культурной и политической жизни на изломе эпох. Формально это так, но западные критики не зря сравнивали работы Иллиеса с газетными репортажами. Автор — не кабинетный ученый, а критик и эссеист. У него журналистская хватка и отточенный стиль человека, который привык, что заголовки обязаны быть, что называется, catchy.
Поэтому «Лето целого века» начинается с кинематографичной картинки:
Кто стрелял? Юный Луи Армстронг, который еще не нашел своего истинного призвания. По кому стрелял? История умалчивает. Иллиес тоже.
Откровенно говоря, Луи Армстронг в этой истории неважен. Она — о том, чем занимались люди в самом конце так называемой «Прекрасной эпохи». В последний мирный год накануне Первой мировой войны, с которой, по большому счету, и начнется настоящий XX век. По крайней мере, для европейцев — но взгляд Иллиеса как раз весьма европоцентричен. В тексте, как нетрудно предугадать, регулярно мелькают американцы и русские. Но вне фокуса остается почти все, что параллельно происходит в Азии, Африке, Индии — в общем, за пределами привычной «ойкумены».
Иллиес пишет, суховато и не без иронии, о людях переломной эпохи. Не о маленьком человеке, нет. О тех людях, которые создают новое искусство, определяют моду будущего, разжигают революции, никак не могут избавиться от насморка, изменяют супругам, на пустом месте ссорятся с друзьями… и кормят косуль яблочком. Все это, как водится, без деления на высокий и низкий жанр.
Январь 1913 года начинается, по Иллиесу, со Сталина, Ленина, Кафки, Манна и Фрейда. Кто-нибудь ожидал иного? Конечно нет. И вдруг — «Башня синих лошадей» Марка, которую Иллиес решительно называет «программным полотном» и «картиной века». Полотно действительно знаковое, хотя для массового сознания — в куда меньшей степени, чем, допустим, «Герника», которую спустя четверть века напишет Пикассо.
Эти экспрессионистские синие лошади почти неизбежно сменили бы масть, если бы «Лето целого века» писал человек, воспитанный на образцах русской культуры. Петров-Водкин представил публике свое «Купание красного коня» почти тогда же: в 1912 году. Читая Иллиеса, остро понимаешь, что железный XX век, конечно, был один на всех, но наша расстановка смысловых вех отличается от европейской. Не синий конь, а красный. Не «за год до Первой мировой», а «за четыре года до Революции».
Впрочем, как ни расставляй реперные точки, 1913 год остается годом перемен. Предчувствие новизны, то мрачное, то эйфорическое, владеет всеми, кто способен чувствовать ветер эпохи. Текст Иллиеса неплохо передает эту подспудно нарастающую нервозность, и ты невольно думаешь: ну а что-нибудь непреходящее в мире еще осталось? Культурные универсалии, вечные ценности? Ну, чтобы отвлечься от надвигающейся грозы?
Да вот, пожалуйста: во-первых, в Европе пропала «Мона Лиза» Леонардо. А во-вторых, в египетской деревушке Тель эль-Амарна нашелся «разрисованный гипсовый бюст некой принцессы королевского рода».
Прекрасная пришла.
В этом весь Иллиес. Он строит свой исполинский коллаж на контрастах. Вот Шпенглер предрекает Европе скорый закат в то время, как европейские державы активно проводят перевооружение, вот Юнгу снятся вещие сны, а вот — реклама сигарет. Неужели это как-то характеризует эпоху?.. Да. Однажды моему знакомому подарили «посылку из прошлого». Даритель промахнулся с эпохой. Адресат выудил из коробки с артефактами девяностых старенький «тамагочи» и озадаченно спросил: «А это еще что?» Зато я, будучи помладше, моментально опознала чудо-гаджет. Мелочи имеют значение, даже если это просто реклама сигарет.
Несколько раздражает то, что Иллиес передает осязаемую ткань бытия через сугубо журналистский прием: десантирует читателя прямо в голову персонажа. Озвучивает, что именно думал Манн в поезде, а Кафка — на свидании. Это естественно для исторического романа, где самим жанром задана дистанция между историческим прототипом и его литературным воплощением, но не здесь.
Ситуацию спасает скрытая, но безошибочно ощущаемая улыбка автора:
Да-да, все было именно так. И яблоко было, куда же без яблока?
И вот ты уже прощаешь автору его репортерскую бесцеремонность. И даже простуженного Рильке прощаешь. Неизвестно, чем он не угодил автору — но насморк, одолевший великого австрийского поэта-модерниста в начале первого тома, успеет надоесть читателю задолго до конца тома второго, о котором ниже. Время несется бешеным галопом — Климт, Шиле, Кокошка, снова Кафка с его мучительным сватовством, немецкие поэты начала века, секс, психоанализ, отпрыски дряхлых европейских монархий, Первая арсенальная выставка, Макс Вебер «расколдовывает мир», никто не верит в войну, все предчувствуют войну… Кстати, если вас интересует, нашлась ли «Мона Лиза» до конца этого сумбурного и странного 1913 года, то да: в декабре. Хеппи-энд?
Самый длинный постскриптум на свете
«1913. Лето целого века» — труд весьма объемный. Но автору, очевидно, казалось, что он слишком многое упустил. Так появился второй том-постскриптум под названием «1913. Что я на самом деле хотел сказать». В действительности книга называется немного иначе: «Что я еще непременно хотел бы рассказать» (нем. «Was ich unbedingt noch erzaehlen wollte»). Русский вариант словно бы намекает, что в прошлый раз было сказано не то и не так. Но Иллиес всего лишь хотел создать развернутый постскриптум. Ведь в одну книгу ни один мировой год, даже самый бессобытийный, не уместится.
Удачный рецепт первого тома сработал и во второй раз. Иллиес пишет о дуэлях и семейных ссорах, о сигаретах и супружеских изменах, о полярных экспедициях и о том, как разбиваются сердца и аэропланы. Короче, во второй книге нас ждет примерно то же, что и в первой: суховатая немецкая ирония, смесь исторических анекдотов и разрозненных статистических фактов, сопряжение великого и малого. Верный своей привычке начинать повествование с этих невозможных русских, Иллиес подбирает ударную первую фразу:
И — побежали. Снова Сталин и Гитлер, разминувшиеся волей авторa в заснеженном парке, снова безотказно действующий прием — хаотическая единомоментность событий, происходящих в разных городах и странах, событий, не связанных между собой логически, но образующих узор эпохи:
Кафка пишет письма, Манн пишет «Смерть в Венеции», а у Рильке… правильно, насморк. Пруст бесконечно воюет с гранками и правками своего эпохального романа «В поисках утраченного времени» (юмор, понятный любому, кто участвовал в этом упоительном авторско-редакторском процессе — с любой стороны баррикад). Шанель возвращает женщинам свободу, а Бор публикует статью «О строении атомов и молекул» — вот и повеяло неуютным ветерком новой физики. «Я смерть, разрушитель миров»… или как оно там было, то есть будет?
О любви и пристрастности
Мы все пристрастны. Особенно когда говорим о любви, политике и поэзии.
Опять эффект «красного коня». Давайте пофантазируем. Кого в подобном контексте вспомнили бы вы? Скорее всего, самую выразительную пару русского Серебряного века: Гумилева и Ахматову. В 1913 году они были женаты, а их сыну Льву еще не исполнилось и полугода. Но Иллиес немец, а поэзию мы чаще всего впитываем на родном языке. Ни Гумилев, ни Ахматова (Блок, Есенин, Мандельштам…) в тексте не упомянуты.
Зато Маяковский — упоминается, вместе со своей меметичной желтой кофтой. То есть не как поэт, а скорее как живой политически окрашенный перформанс, легко встающий в тот ряд, где уже расположились Горький, Ленин, Сталин и Николай Второй. Так сказать, революция в лицах…
Но не революцией же единой? Кто еще из наших культурных величин включен в эту пеструю хронику? Прежде чем читать следующий абзац, проверьте себя. Я предугадала практически всех, поскольку список у Иллиеса вышел более чем ожидаемый.
Дягилев. Нижинский. Стравинский. Малевич. Кандинский. Русский балет и русский авангард. Именно и только те грани русского искусства, которые были восприняты Европой с наибольшим энтузиазмом. Это не упущение — это взгляд извне, который инсайдеру (тому, кто смотрит изнутри) ценен именно отличиями оптики. Небеспристрастностью иного свойства, чем у тебя самого.
И еще одна мысль приходит на ум, когда читаешь двухтомник Иллиеса. Считается, что большое видится на расстоянии. Рассмотреть эпоху можно только одним способом: обернувшись на нее через плечо. На самом деле ретроспективный взгляд ничуть не менее пристрастен, чем взгляд человека, погруженного в контекст эпохи. В некотором смысле — даже более пристрастен: он уверенно отбрасывает то, что не имело далеко идущих последствий, не оставило следов на песке. Для понимания исторического процесса это полезно. А вот для непосредственного восприятия эпохи — как раз нет! Только наивный очевидец видит свое время без нарративных фильтров, таким, какое оно есть здесь и сейчас.