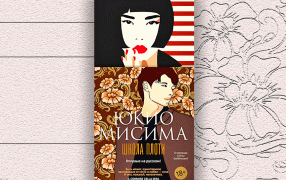Интервью: Павел Басинский
Павел Басинский: В 1819 году богатый мценский помещик Афанасий Неофитович Шеншин, находясь в Германии, женился на разведенной Шарлотте Фёт и увез ее в Россию. Их сын родился в России, был крещен по православному обряду и получил фамилию Шеншин. Но затем выяснилось, что крещение незаконно. Шеншин и Шарлотта венчались по лютеранскому обряду, а православное венчание произошло уже после рождения сына. Афанасий Неофитович поступил, мягко говоря, разгильдяйски. В результате его сына лишили дворянства, он перестал быть Шеншиным и стал Фётом («ё» он затем поменял на «е», чтобы немецкая фамилия так не резала слух), то есть стал носить фамилию первого мужа матери и считаться его сыном. Это была трагедия всей его жизни. Он ненавидел свою фамилию, и в пожилом возрасте ценой службы при дворе вернул себе фамилию Шеншин и дворянский титул. Как ты думаешь, почему это было для него так важно?
Максим Амелин: Я бы стал не обвинять отца Фета в разгильдяйстве. Видимо, история его отношений с Шарлоттой – это история большой любви. Он от сына не отказывался, ему просто сообщили через 14 лет, что его сын – не его сын и наследник, на том только основании, что документы оформлены неправильно. Как будто речь шла не о человеке, а о вещи, купленной за границей и ввезенной в обход таможни. Конечно, для него это был роковой удар, тяжелейшая психологическая травма. Но мне кажется, что если бы этого не случилось, у нас бы не было одного из лучших наших поэтов. Схожая история произошла с Евгением Боратынским: не будь украденной шаловливым юношей табакерки — не было бы поэта Баратынского, но тут все-таки собственный проступок, а у Фета – чистый рок. Кстати, обоим пришлось отрабатывать.
Для того, чтобы вернуть дворянство, по тогдашним законам нужно было дослужиться в армии до определенного звания, и когда кавалерист Фет дослуживался до очередного чина, этот ценз поднимался, и так было трижды за почти 13 лет. Фет вынужден был уволиться из армии, так и не дослужившись до дворянства, которое затем де-факто поэту было возвращено за литературные труды – сыграли роль переводы Горация. Ничего удивительного, что личность Фета раздвоилась, почти что на двух гончаровских антагонистов – Обломова и Штольца, поэта и помещика. Вернув дворянство и родовую фамилию, Фет лишь узаконил это раздвоение: стихи продолжал писать и печатать как Фет, а хозяйствовать как Шеншин. Даже давних друзей он просил адресовать ему письма как Шеншину. И Тургенев зло подшучивал над ним, например в письме Полонскому: «О Фете слышал, что из него сделался Шеншин самого дюжинного разбора».
Другим роковым обстоятельством в судьбе Фета стала смерть его возлюбленной Марии Лазич.
Павел Басинский: История удивительная! В конце 40-х годов во время службы в Херсонской губернии Фет знакомится с дочерью мелкого помещика Марией Козьминичной Лазич. Они влюбляются друг в друга, но Фет понимает, что ему без права на наследство жениться на бесприданнице нельзя. И она это понимает, но просит его не разрывать отношений. Тем не менее, Фет идет на разрыв и потом женится по расчету на дочери богатого чаеторговца Марии Петровне Боткиной. Но раньше Лазич погибает при странных обстоятельствах. От лампады случайно загорается платье, она выбегает в сад и на ветру сгорает как спичка. Биографы Фета гадают: был ли это несчастный случай или экзотическое самоубийство? Так или иначе, но образ сгоревшей заживо Лазич станет сквозной в лирике Фета. «Не жизни жаль с томительным дыханьем. / Что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданием / И в ночь идет, и плачет уходя».
Максим Амелин: Процитированные стихи – 1879 года, а «Когда читала ты мучительные строки...» со знаменитым финалом «Там человек сгорел?» написаны еще через 8 лет. Давно было замечено, что любовная лирика позднего Фета по большей части ретроспективна. То есть поэт в нем жил до последнего дня, но все основные жизненные впечатления были им, как воспринимающим субъектом, получены до смерти Марии Лазич включительно: «Та трава, что вдали на могиле твоей, / Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей...» («Alter ego», 1878). В 1852 году, после этой трагедии, он пишет другу Ивану Борисову: «Я ждал женщины, которая поймет меня, – и дождался ее. Она, сгорая, кричала: <Ради Бога спасите письма!> – и умерла со словами: он не виноват, – а я. После этого говорить не стоит. Смерть, брат, хороший пробный камень. Но судьба не могла соединить нас. <...> Итак, идеальный мир мой разрушен давно. <...> ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга. Может, это будет еще худшее худо – но выбора нет». Но пережитого, перечувствованного и накопленного Фету хватило на всю последующую творческую жизнь.
Случались и курьезы. На стихотворение 1890 года «На качелях» язвительный Виктор Буренин откликнулся фельетоном о «разыгравшихся старичках». Об этом Фет писал Полонскому: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь».

Павел Басинский: В Фете жили два человека: тонко чувствующий поэт и хладнокровный делец, помещик. Образцовые имения – Степановка в Орловской и Воробьевка в Курской губерниях...
Максим Амелин: Да, раздвоение Фета на «лирика» и «дельца» было поразительным! В 1884 году он послал Льву Толстому свеженаписанное стихотворение «Ласточки» (шедевр русской философской лирики), а на обороте предлагал попридержать пеньку, которая скоро на Москве вздорожает. Оба поместья были им доведены до состояния образцовых. Когда несколько лет назад чистили пруды в Воробьевке, обнаружилось, что дно их выложено мореным дубом как паркетом, сохранившимся почти идеально.
Павел Басинский: Но это просто Собакевич из гоголевских «Мертвых душ», у которого колодец был «обшит корабельным дубом»! Над Фетом-помещиком и реакционером издевалась не только «прогрессивная» критика, но и другие его современники. Среди московских студентов ходила байка, что, приезжая в Москву, Фет останавливал свою коляску возде здания Московского университета, где сам учился в сороковые годы, и... плевал в его сторону, считая родной университет рассадником вольнодумия. Зная эту привычку хозяина, его кучер сам, без приказа, останавливал коляску на Моховой. Можно вспомнить и язвительные стихи философа и поэта Владимира Соловьева о Фете: «Жил-был поэт, нам всем знаком, / Под старость лет стал дураком...» Как ты считаешь, реакционные взгляды Фета, который после отмены крепостного права оставался идейным «крепостником», были игрой или действительно выстраданным мировоззрением?
Максим Амелин: Про плевки в сторону университета – анекдот, запущенный Чеховым, который с Фетом лично знаком не был, но именно из его дневника шутливая запись ушла в народ. Покойный фетовед Вячеслав Кошелев посвятил развенчанию этого мифа отдельную статью. Еще в 1990-е, до капитального ремонта на Моховой, можно было видеть многочисленные выщерблины на столбах университетской ограды. Я сам тогда не раз показывал их друзьям и знакомым, говоря: «Вот это и есть те самые следы от ядовитых плевков Фета». И некоторые верили...
Павел Басинский: Он не был реакционером и крепостником?
Максим Амелин: По своим убеждениям Фет был, особенно в поздние годы, государственником, монархистом, он поддерживал связи с царской семьей, воспевал Александра III, получил придворное звание камергера. Реакция 1880-1890-х, полагаю, ему, как дворянину Шеншину, нравилась. По поводу мнимого «крепостничества» Фета могу сказать, что Степановку, первое собственное поместье, он приобрел незадолго до отмены крепостного права, т. е. «крепостником» он был меньше года. Другой вопрос, что он много писал о поспешности реформы, о последствиях и о том, как по-новому можно и нужно обустраивать хозяйство. Но и здесь, мне кажется, раздвоенность личности на поэта и помещика сыграла свою роль, иначе объяснить это трудно.
Павел Басинский: Как поэт Фет был безусловным новатором. Писал «безглагольные» стихи – «Шепот, робкое дыханье. / Трели соловья, / Серебро и колыханье / Сонного ручья...» Поздний Фет вообще позволял себе невероятно смелые образы. По сути, он предвосхитил «модерн» Серебряного века, прежде всего символистов. Но вот вопрос: понимал ли сам Фет свое новаторство? Его сборник 1856 года вышел под редакцией И. С. Тургенева, в которой Тургенев тщательно «выправил» стихи своего тогда еще товарища по кругу журнала «Современник». Сегодня ценители поэзии Фета в один голос утверждают, что Тургенев «изувечил» его стихи, приводя их «к норме». В 1863 году Фет оставил тургеневскую редактуру, и в советских изданиях эти стихи тоже публиковались в тургеневской редакции. Иногда кажется, что Фет сам «не ведал, что творил». Например, в стихотворении «Шумела полночная вьюга...», где двое влюбленных сидят у камина, есть такой образ: «И двух наших теней громады лежали на красном полу...» Громады теней – только Фет тогда мог позволить себе такое сочетание несочетаемого. Или в совсем позднем стихотворении 1890 года «На кресло отвалясь, гляжу на потолок...» есть такая строка «Грачи кружатся темным стадом…» Стада коров и лошадей – это понятно, но стада грачей! Он сам-то понимал, что делает?
Максим Амелин: Да, Фет достаточно сильно повлиял на Серебряный век, не только на символистов, но и на акмеистов, имажинистов, включая Есенина, и даже – как ни странно – футуристов в лице как минимум Северянина, Пастернака (теней громады превратились в тени скрещенья рук и т. д.), в какой-то мере Маяковского, отдельно – на позднего Заболоцкого.
В словаре Фета много областных орловских и курских слов и выражений (например, стадо вместо стаи), диалектных смещенных ударений – это бросается в глаза. Для этого и нужна поэтическая смелость. Тургенев же был сторонником рафинированного стиля, и фетовские вычуры и несуразицы ему не нравились. Фет потом лишь частично восстановил свои тексты, потому что итогового собрания он не подготовил, оно вышло посмертно, составленное не им. И это стало большой текстологической проблемой. Только в XX веке были восстановлены оригинальные варианты. Но Тургенев так поступал не только с Фетом, но и с Полонским, и даже с Тютчевым. Иногда отменный и утонченный вкус мешает чувствовать новаторское и необычное, это как раз тот самый случай.
Павел Басинский: Какова судьба главного имения Фета Воробьевка в Курской области? Что там сегодня?
Максим Амелин: Фет купил Воробьевку в 1877 году, будучи уже опытным помещиком, и поднял запустевшее после смерти бывшего хозяина Петра Ртищева имение из руин. Он оценил хозяйственный размах прежнего владельца (есть даже у него стихотворение "К бюсту Ртищева в Воробьевке", стоявшему на камине в гостиной). На покупку именно этого имения повлияла не только близость к железнодорожной станции, но и к Коренной пустыни. Мария Петровна была очень набожна, и в Воробьевку несколько раз заносили Коренную икону во время крестных ходов. После смерти Фета и Марии Петровны имение перешло к ее племяннику Сергею Боткину, будущему видному деятелю русской эмиграции, оставившему две серии фотографий, сделанных в Воробьевке, летом 1890 года – усадьба, ее хозяин и его гости (семейство Полонских и критик Страхов), и в 1916-м – постройки, интерьеры, какими они были при Фете. У Фета там бывали в разные годы еще и Толстой, и Владимир Соловьев, и Чайковский. Но дальше произошла революция. Дом был, понятное дело, разграблен, сад с вековыми деревьями и экзотическими растениями заброшен. Но сам дом, построенный еще в XVIII веке, сохранился до наших дней, хотя в советское время в нем были то курятник, то машинно-тракторная станция, а затем школа. Сад особенно пострадал во время оккупации: нацисты порубили все деревья на дрова – стояли очень холодные зимы. В 1990-х на месте сада еще виднелись заросли барбариса и одичавшей японской войлочной вишни. В начале 2000-х школу закрыли, и дом простоял несколько лет пустым. Усадьба сейчас в целом восстановлена, насколько это вообще возможно после всего, что с ней происходило, дом отреставрирован и превращен в музей, и всё это сделано трудами фактически одного человека – Антонины Семеновны Яковлевой, хранительницы усадьбы. Повезло, что ее проект восстановления поддержала прежняя курская областная администрация, потому что федерального статуса у Воробьевки нет.
Павел Басинский: Где похоронен Фет?
Максим Амелин: Он умер в Москве, а похоронен вместе с женой, пережившей поэта на два года, в родовой усыпальнице Шеншиных под Покровской церковью в селе Клеймёнове, километрах в 15 от Орла. Видимо, таково было его завещание. Эта церковь, благодаря тому, что в ней покоится Фет, пережила советское время. К сожалению, я там никогда не был. Надо бы съездить.
Послесловие

Гаянэ Степанян, доцент РУДН, писатель
Мои абитуриенты зачастую спрашивают меня: «Что в имени мне твоем»? Подразумевая «моих» классиков. Для многих из них школьная программа – навязанная докука ради сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Порой они сомневаются даже в актуальности Пушкина, что уж говорить про Афанасия Афанасиевича, ассоциирующегося у моих учеников с романсами позапрошлого века, соловьями, зорями, розами и прочим антиквариатом. Для многих из них Фет – это анахронизм, навязанный устаревшими взрослыми.
И каждый год мне приходится заново связывать вечность и современность. Вероятно, в том, чтоб найти и показать такую связку, убедить в ее реальности, и заключается моя работа. Чтоб в эпоху метро и интернета разъяснить ценность стихов из эпохи имений и лошадей, я сама вслушиваюсь, в чем они созвучны современности.
Фет звучит не только созвучиями, легко перетекающими в романсы. Попробуйте изобразить из себя заправского рэпера и ритмично наговорить: «Это утро, радость эта, Это мощь и дня и света, Этот синий свод, Этот крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы, Этот говор вод». Сопроводите свое «выступление» характерными движениями кистей рук или отбейте ритм по столешнице.
Современного Фета я вижу хипстером, с диджейской сноровкой крутящего виниловые пластинки (не исключено, что с собственными романсами) и наговаривающим ритмично: «Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало»! И мне б хотелось, чтоб однажды выступила группа Foeth с бородатым, как и автор «телег», солистом, ритмично наговаривающим про шепот и про робкое дыханье.