Текст: Виктория Пешкова
«И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы / Вера Мильчина. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 216 с.
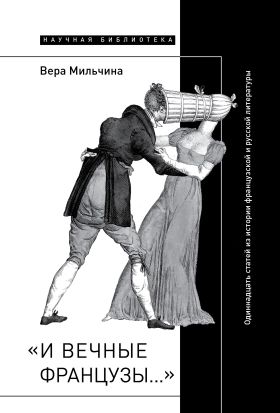
Вера Мильчина в первую очередь известна как переводчик, причем не только мэтров французской литературы – Бальзака, Гюго и Шатобриана, но и авторов далеко не столь титулованных, но, тем не менее, достойных внимания. Благодаря ей русский читатель познакомился, к примеру, со светскими хрониками Дельфины де Жирарден или «Альманахом гурманов» Александра Гримо да Ла Реньера. Не впервые Мильчина выступает и в амплуа популяризатора сферы своих научных интересов. Ее новая книга «И вечные французы…» – как раз из области занимательного литературоведения.
Писать доступно и увлекательно о серьезных исследованиях не каждому ученому по силам. Вера Мильчина – ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС – это умеет, как немногие из ее коллег. Сама Вера Аркадьевна убеждена, что научиться этому невозможно – способность врожденная либо есть, либо отсутствует, и, значит, никакой особой ее заслуги в этом нет. Готовы согласиться, но с одной существенной оговоркой – только лишь природной способности ученому-популяризатору недостаточно. Необходимо любить свой предмет. Любить так, чтобы хотелось о нем рассказывать всем-всем-всем, и рассказывать так, чтобы эти все-все-все тоже его полюбили.
Именно это с большинством читателей книг Веры Мильчиной и происходит. Пишет ли она о повседневной жизни Парижа между 1814 и 1848 годами, составляет ли путеводитель по парижским улицам той эпохи или рассказывает о том, как власти надзирали за французами, жившими в России в царствование императора Николая I, – оторваться совершенно невозможно, потому что ее стараниями далекая эпоха обретает, что называется, «и свет, и звук, и плоть, и стать». Вот это умение открыть читателю сочную и звучную «повседневность» и можно считать фирменным стилем Мильчиной.
Ее специальность – французская литература первой половины XIX века, периода, который в истории литературы именуется золотым веком. Так что появление книги, посвященной русско-французским литературным связям, не случайно. Строкой из грибоедовского «Горя от ума» назван сборник, объединивший одиннадцать статей, написанных в разное время и по разным поводам, но с одной целью – разгадать еще одну из бесчисленного множества загадок, оставленных в наследство потомкам русскими и/или французскими писателями.
Почему Пушкин и Вяземский ценили в романе Бенжамена Констана «Адольф» совсем не то, чем восхищались тогда читатели-французы? С какой целью русское дворянство в личной переписке периодически переходило с родного языка на французский и обратно? Существовало ли в русской литературной критике понятие, сходное с «литературной приязнью», столь страстно обличаемой критикой французской? Был ли Жозеф де Местр, известный религиозный философ и по совместительству посол Сардинского королевства в России, блиставший остроумием в петербургских салонах начала XIX века, действительно светским человеком? Почему «канонические» переводы произведений Оноре де Бальзака иногда доносят до русского читателя не совсем то или даже совсем не то, что написано в оригинале? И это далеко не все головоломки, над которыми предлагает поразмыслить Вера Мильчина. По собственному признанию автора, «во всех статьях речь идет, по большому счету, об одном и том же — о том, как люди распоряжаются своими и чужими словами, о том, как строят из них тексты и репутации».
Каждая статья – серьезный кросс-культурный анализ, приводящий исследователя к неожиданным результатам, которые не искушенному в литературоведческих тайнах читателю порой кажутся просто ошеломляющими. А ведь речь идет о школьных классиках – Пушкине, Лермонтове, Тургеневе. Кого из нас время от времени не посещает мысль, что мы знаем о них все? Даже испытывая искреннюю любовь к их творчеству и регулярно перечитывая строки, которые сильнее всего трогают наше сердце, в них самих нам обычно сложно видеть людей, которые просто жили – одних любили, других ненавидели, третьих презирали. А между тем все эти чувства так или иначе отражались и на их собственных текстах, и на том, как они воспринимали и оценивали произведения своих собратьев по перу.
Виктор Гюго и Стендаль зачислены в гранды французской словесности так давно, что нам кажется, так было всегда. Однако «наше все» Александр Сергеевич и к тому, и к другому относился с нескрываемым пренебрежением, более того – с неприязнью. Что не мешало некоторым современникам поэта именовать его «русским Гюго» и не мешает нынешним литературоведам приводить аргументы в пользу сходности творческих поисков Пушкина и Стендаля.
В качестве одного из аргументов она приводит отклик Александра Сергеевича на «Красное и черное» – единственный роман Стендаля, относительно которого есть точные сведения, что Пушкин его читал: «хороший роман, несмотря на некоторые фальшивые разглагольствования и некоторые замечания дурного вкуса».
Низкое социальное происхождение Жюльена Сореля в глазах Стендаля – несомненное достоинство, Пушкина же оно коробит. По мнению Мильчиной, поэту, гордившемуся своим шестисотлетним дворянством, не могли не показаться дурновкусием «монологи «бунтующего плебея», для которого тщеславная радость оттого, что он покорил сердце дворянки, порой оказывается важнее самой любви. Эту точку зрения плебея разделял и сам автор «Красного и черного», однако ее никоим образом не разделял Пушкин, который вообще мало интересовался психологией плебеев, а социальные мезальянсы в любви изображал только невсерьез, в маскарадном виде («Дубровский», «Барышня-крестьянка»)».
Что же до Виктора Гюго, чью всеевропейскую славу Пушкин считал абсолютно незаслуженной, поскольку он «не имеет жизни, т.е. истины», то раздражение по его адресу у Александра Сергеевича, судя по всему просто зашкаливало. По собственному выражению поэта, Гюго у него то и дело «перебивал лавочку». Вот только два примера. В январе 1829 года выходит сборник Гюго «Восточные стихотворения», куда включен «Мазепа», а двумя месяцами позже – первое издание пушкинской «Полтавы». При том, что Александр Сергеевич начал сочинять свою поэму за два месяца до того, как Гюго написал свое стихотворение. В декабре 1830 года выходит «Борис Годунов», и молва обвиняет поэта в подражании «Кромвелю», хотя пушкинская трагедия написана в 1825 году, а поэма Гюго опубликована в 1827-м, но для публики, не осведомленной в авторской хронологии, Пушкин очевидно идет «по следам» Гюго.
В статье «О записках Самсона», оповещающей о выходе мемуаров парижского палача времен революции Анри Сансона (1740—1793), «поэт Гюго» упомянут Пушкиным как тот, кто «не постыдился искать [смрадных — вар.] вдохновений для романа, исполненного огня и грязи», в записках «клейменого каторжника» Видока. Речь, очевидно, о "Последнем дне приговоренного к смерти": «Для Пушкина – резюмирует Мильчина – палач Сансон, каторжник Видок и поэт Гюго стоят как авторы в одном ряду. Иначе говоря, в основе неприязненного отношения к Гюго у Пушкина не только «поэтические» разногласия, но и пренебрежительное отношение к человеку не своего круга, который пишет о предметах, о которых говорить неприлично». Ларчик открывается просто – предки Гюго не были дворянами. Только отец писателя, дослужившийся до генерала, получил в 1811 году графский титул от тогдашнего короля Испании – Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона. Комментарии, как говорится, излишни.
На этом, пожалуй, и остановимся. Литературоведческим «детективам» спойлеры противопоказаны в той же мере, в какой и криминальным.








