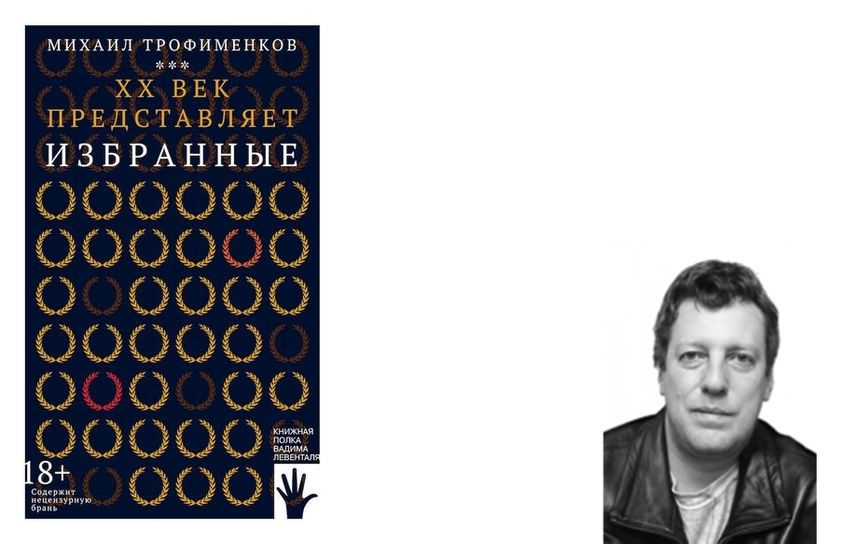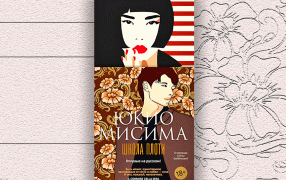Текст: Татьяна Набатникова
Михаил Трофименков. «ХХ век представляет: ИЗБРАННЫЕ»
М.: ИД «Городец», Книжная полка Вадима Левенталя, 2022
Если Францию придумали Бальзак и импрессионисты, а Россию — Достоевский, то Америку придумал Джон Форд.
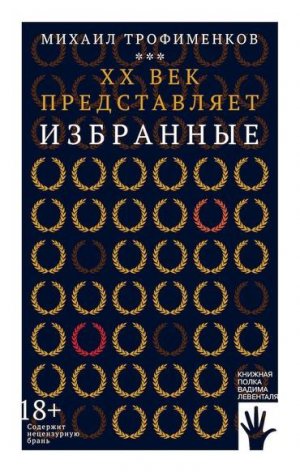
«В 1957-м он [Бергман], в третий раз женатый отец шестерых детей, крутил сразу несколько романов, в том числе с двумя будущими жёнами. Лив Ульман позволит себе в фильме маленькую месть экс-мужу, уверяя, что не помнит, с какой из актрис по фамилии Андерссон он тогда спал: с Хэрриет или с Биби. Да ладно, Лив, с обеими, с обеими».
Да одна последняя фраза стоит того, чтобы прочитать книгу этого блистательного пижона. Михаил Трофименков не пишет романы только потому, что живая жизнь интереснее. Так же было с его героем Томом Вулфом: «Вулф насмехался над извечной мечтой любого американского журналиста написать Роман. Точнее говоря, Большой Американский Роман. Какой, к чёрту, роман! Бестолковая, отчаянная, тщеславная, жестокая, наивная, идиотская, величественная американская жизнь немыслимее любого вымысла».
Об актрисе Жа-Жа Габор: «Как ни парадоксально, вся эта суета имеет самое прямое отношение к истории культуры. Габор, режиссёр своей жизни, навечно вошла в историю кино, практически ничего в нём не совершив. И породила (кто сказал «Ксения Собчак»?) целый класс — имя им легион — эпигонов, фантомных актрис или телеведущих».
Вот эта вставочка – «кто сказал Ксения Собчак?» – тоже от романиста.
Про Марчелло Мастроянни и Фэй Данауэй:
Мастроянни был женат 49 лет на актрисе Флоре Карабелла, женщине, которая заменила ему мамочку. Он звонил ей в слезах: «Катрин не хочет выходить за меня! Она же обещала! Я сказал ей, что ты разрешила! Я хочу умереть!» И Флора утешала: «Да она, наверное, ненормальная. Я тебе говорила: не связывайся с француженками. Хватит, не трать деньги на телефон, возвращайся домой».
Эту сцену хоть прямо снимай – подойдёт для любой итальянской трагикомедии.
«Так странно — кроме как об этой карикатурной личной жизни, всех участников которой жалко, о Мастроянни-человеке рассказать нечего. Ну, рос в бедности, обожал поесть, выкуривал три пачки в день — чё ещё? Похоже, он действительно жил только тогда, когда играл. Но тогда он прожил не одну, а 150 жизней — как же ему повезло!» - в эту фразу Трофименков уложил целый роман. «Чё ещё?»
В разговоре о режиссёре Хесусе Франко пишет: «Невозмутимо лепил по три фильма зараз: без сценария и раскадровки. Одна актриса утром осведомилась у мэтра, что ей предстоит сегодня. «Умирать». — «Но я умерла вчера!» — «Не волнуйся, вставим в другой фильм». Такое было возможно, конечно, только на пике популярности кино в 1960-е годы».
А некоторые очерки похожи на анамнез психического заболевания, как про Хичкока, который «никогда, никогда не спал с актрисами. Женился девственником, в 27 лет с изумлением узнал о феномене менструаций. Да и отношения с Альмой после рождения дочери быстро переросли в платонические. Его сексом были съёмки, где он мог на «законных основаниях» воплощать фантазии тирана-садиста».
Или про смерть Денниса Хоппера: «Возможно, Чарльз Буковски и Хантер Томпсон, два других великих бузотёра контркультуры, при жизни не выносившие друг друга, переругались на том свете и срочно вызвали Денниса как трезвого посредника».
Но я начала свои впечатления со второй половины книги Михаила Трофименкова, посвящённой зарубежному кино, тогда как меня, родившуюся посередине ХХ века, формировало кино отечественное. А с самым первым кинематографистом в списке Трофименкова (книга построена как энциклопедия – по алфавиту) Леонидом Даниловичем Аграновичем я была хорошо знакома.
Под обаяние этого человека невозможно было не попасть: он был «одним из пионеров жанра «морального беспокойства», общественного неблагополучия, доминировавшего в советском кино с начала 1970-х до самой гибели СССР. …неумолимое ощущение, что со страной творится неладное, что реальность всё неотвратимее расходится с идеалами, овладело к началу 1980-х всеми значительными режиссёрами и авторского (от Вадима Абдрашитова до Никиты Михалкова), и жанрового (от Герберта Раппапорта до Олега Гойды) кино, вылившись в безнадёжный крик о помощи».
Но и сам он попадал под чужое обаяние как впросак: «Поехал в Воркуту писать сценарий героико-производственной драмы «68-я параллель» и влюбился там в начальника исправительно-трудовых лагерей НКВД Михаила Мальцева. Военный строитель, сапёр, слуга царю, отец зэкам, тот решал неразрешимые задачи, действительно жизненно важные для всей страны».
Про Баниониса мне хватило одной строчки: «Может быть, понятие «взгляд Баниониса» ещё войдёт в бесполезные учебники недостижимого актёрского мастерства».
Про Битова и его время: «Такой же, как обожаемый и начисто непонимаемый (а было ли что понимать) восторженной публикой философ Мераб Мамардашвили и постановщик спектаклей, которых никто не видел, Евгений Шифферс. Режиссёр неснятых фильмов Рустам Хамдамов и основоположник загадочной «системо-мыследеятельностной методологии» Георгий Щедровицкий. В том же ряду — Михаил Бахтин с его невнятной «карнавальностью» и Лев Гумилёв со злобной «пассионарностью». Алексей Лосев с неподъёмными томами «Истории античной эстетики» и Юрий Лотман, мастер напускать семиотический туман. Да хотя бы и Еремей Парнов, посвящавший советского читателя в тайны сатанинских культов. Совершенно неважно, кто из них шарлатан, кто гений, кто священный безумец. Все они удовлетворяли алчный общественный запрос на «интеллектуальную сложность», на «избранность», заключающуюся не в постижении некоего «тайного знания», а в подтверждении своей прикосновенности к нему.
Да, свидетельствую: был такой «алчный общественный запрос» у моего поколения, и после рассказа Битова «Пенелопа» мы уже никому не отдадим этого «отца русского постмодернизма» (©Трофименков) на съедение.
Трофименков – это уже другое поколение, они и про нашего Вознесенского, «Виолончельный лист дубовый» которого лежал в наших студенческих портфелях в обнимку с Сопроматом, кощунственно говорили: «сдрейфившая льдина!» – когда тот после скандала с «Метрополем» смылся на Северный полюс.
Про Эдуарда Володарского: «Будучи обязанным своей славой фильмам Германа, неустанно проклинал его последними словами, тем самым лишая себя этой славы. Впрочем, и Герман в минуту вдохновения выдавал о былом соавторе такое, что редакторы, получив расшифровку интервью, обморочным голосом шептали мне: «Вы же понимаете, что это не может быть напечатано нигде и никогда».
Вот она, наша жизнь в искусстве.
«Сценарий «Своего среди чужих, чужого среди своих» (1974) Никиты Михалкова — его вершинное произведение — не только обновил советский жанровый кинематограф и задал новую, немыслимую, игровую интонацию разговору о революции, в конечном счёте похоронив сам пафос революции».
«Ещё один отдельный и тоже ждущий своего исследователя сюжет — антисоветская траектория режиссёров, выросших в семьях литературной элиты. Алексея Симонова, Андрея Смирнова, Владимира Бортко, Алексея Германа».
Но задача не из простых. Про «Хрусталёва», которого Герман снимал 7 лет: «До сих пор я не могу сформулировать взвешенное, рациональное суждение о фильме, да и просто определиться: физический шок от фильма — это хорошо или плохо. Наверное, фильм был не меньшим шоком для его автора».
Герман ставит автора в тупик. «…единственный режиссёр, создавший свою кинограмматику, бесполезную для любого другого режиссёра». «Разменяв седьмой десяток, … отказался от прославившей его эстетики, от собственной грамматики, от советской фактуры, знакомой ему как никому, и взялся за «Историю арканарской резни», по сравнению с которой первоисточник — «Трудно быть богом» братьев Стругацких — покажется сказкой о трёх поросятах. Перевернул страницу. Начал с начала. Словно впереди была ещё одна жизнь».
Уважает!
О фильме Губенко «Запретная зона» (1988): «…это была политическая притча. Ураган, порушивший в 1984-м Ивановскую область, – метафора перестройки, разрушающей человеческую солидарность и легализующей худшие инстинкты».
Вот так иногда правильно назовёшь какое-то явление в искусстве – да и подведёшь себя под политическую статью. Перестройка как легализация худших инстинктов. Это не донос, дорогой Михаил, это солидарность. Вместе пойдём под статью.
О Евтушенко: «Его поэзия и поэтическое поведение составляли единое целое. Без его экзальтированной жестикуляции и эстрадной цыганщины многие тексты, выпевая которые он заставлял забывать о хромающих рифмах — просто умирают».
Рассказывая о Жванецком, Трофименков делает точное социологическое наблюдение: «Его золотое время – годы брежневского неонэпа. В СССР сложилось полноценное, но застенчивое общество потребления. Смеясь над этим обществом, Жванецкий сам был его порождением», и его самого «со смаком потребляли, как потребляли дефицитную жратву».
А что он написал про Жжёнова, я даже процитировать не могу, так это страшно.
Георгий Тараторкин: «Он стал не просто Раскольниковым, но частью экранного Петербурга, его порождением, его бредом, его горгульей».
«Июльский дождь» (1966) Марлена Хуциева обозначен в книге «фильмом-занавесом, опущенным над эпохой оттепели, не столько переходящей в заморозки, сколько утомившейся от собственной игры в искренность. Фильмом, подводящим горький и преждевременный итог жизни поколения романтиков и позёров, которые считали себя честнее и чище своих родителей, а оказались несравнимо мельче».
А говоря о Сергее Юрском, автор допустил такую проговорку аристократа о герое Юрского в «Месте встречи»: «Это тот же Викниксор, переживший всё, что пережила страна, битый-пуганый, уцелевший в 1937-м. И кажется ему, что проклятый год вломился в его жизнь, как вломились сапогами хамы жегловы со своими шараповыми, разыгрывающие, как в дурном цирке, дуэт доброго и злого следователей-ковёрных».
Аристократ-то он аристократ, но не обходит стороной и контркультуру: «С каким рыком и хрюком ворвалась в культуру панк-банда некрореалистов, в которой (Евгений) Юфит атаманствовал. Созданная им в 1984-м первая и единственная в СССР подпольная киностудия «Мжалала-фильм» снимала на помойках и в перелесках 16-миллиметровые «коротышки», руководствуясь творческим принципом «Тупость, бодрость, наглость». Вызвали в конце 1980-х годов нешуточный эстетический — а не политический, что было бы проще простого — скандал. Брутальные «жмурики-п*****сы» гонялись друг за другом на лоне природы, а из-под сугробов выползали по весне мертвяки в строгих костюмах и с явственными признаками разложения на лице. К этому невозможно было подобрать эстетический или философский ключик».
А как он зол на советскую интеллигенцию, видно из очерка о Янковском: «Но любое безвременье многолико, в отличие от эпох великих потрясений. И только универсал Янковский мог воплотить все его лица. И Волшебника с Мюнхгаузеном — золотой сон советской интеллигенции о себе любимой».
А в самом конце книги, нарушая все алфавитные порядки и все границы политической карты мира, Михаил Трофименков замахнулся на дело о сотнях тонн золота инков и ацтеков, которые долго лежали в подвалах Мадрида, а в 1936 году перекочевали в трюмы советских судов в оплату военной помощи СССР. Золото прибыло в Одессу, но до Москвы добралась лишь малая его часть. Ещё какая-то часть оказалась в Швейцарии на депозитах Коминтерна. Конечно, расследовать такие хищения и пропажи – не дело кинокритика. Утешимся лишь тем, что каким-то боком воспользовался этими депозитами – в интересах кино! – некий загадочный, как все разведчики мира, как бы американец Луи Доливе.
Что-то неуловимо русское слышится в этой фамилии…