
Текст: Антон Осанов
Дмитрий Данилов. «Саша, привет!» — М.: АСТ, РЕШ, 2022 — 256 с.
Озадаченность возникает почти сразу, когда приговорённого к смерти филолога Сергея Фролова учтиво, как при заключении взаимовыгодного договора, просят расписаться на каждой из любезно помеченных страниц. Неужто текст собрался брать противопоставлением? Соседством обыденного и чудовищного? В общем, хорошенько обдать из душа Шарко? Но роман Дмитрия Данилова такой судьбы счастливо избегает. Если честно, он вообще всего избегает — очевидного Кафку, естественного Набокова. И конечно же, текст избегает однозначной трактовки.
Казалось бы, всё очень просто. Вот же она, родная, примявшая человека власть. Навалилась в лучших традициях «общества и государства» и задушила до любви, до страстного признания в том, что ты, мой палач, самый верный и единственный друг. Весьма чтимый в России сюжет: «Хочется припасть к силе, которая тебя приговорила к смерти». Но ведь «припадают» в достижениях осовременненого, принудительно гуманизированного общества, где за связь со взрослой девушкой положена смерть. Сам возраст сношений (двадцать один год) до невозможности привнесённый, не наш. Ситуация расстрела порождена «новой этикой», прогрессивным духом эпохи. С другой стороны, приговорённый к смерти Фролов продолжает вести привилегированную столичную жизнь. Он обеспечен, несогласен, чуточку зол. Это уже про московскую интеллигенцию, про её комфортабельный бунт, над которым вдруг проявили окончательный аргумент пулемёта. Три полосы в коридоре с ним — белая (подводящая к опасной зоне), синяя (для охранников) и красная (для расстрела).
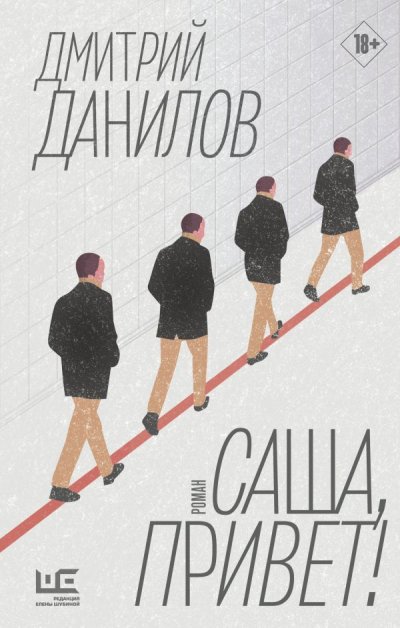
Расслаивать «Саша, привет!» легко и приятно. Он так и сделан, с остранением, сценарно, на киношные полтора часа, финал которых ловко сбегает в титры. Причём текст заранее всё проговаривает. Так, Фролов с женой — филологи, специалисты по советским двадцатым, из-за чего заблаговременно упоминается Леонид Добычин, избегший кары так же, как, вроде бы, избег её Фролов. Это сразу же располагает к тексту — он легко раскрывает свои секреты, без сожаления расставаясь с сюжетами, на которые иные авторы наверстали бы четыреста плотных страниц. Поэтому «Саша, привет!» никакое, конечно, не кафкианство — в кафкианстве страшна изнанка, то, что таится меж слов, но никогда не озвучивается. Тогда как здесь всё напрямую, сознательно упрощено, как бы даже по кругу манифестировано.
Тем самым текст легко отшелушивает филологическую интерпретацию, когда восклицают — Вагинов! Оруэлл! Ионеско! Это сделано походя, в каких-то однообразных дурных диалогах, в обеднённом простом письме. И это — хорошо. Если не сказать круто.
В то же время выстроенная романом позиция слишком контекстуальна. Необходимо много знать и много учитывать, иначе текст кажется пустопорожним. Он очень плотно вделан в российскую и мировую повестку, в уже осознанное и написанное, в театр и сцену, и правильно, что текст решил этого не скрывать. Но если принять эту его оголённость, выяснится, что её применимость к тому же российскому контексту маловажна и незначима. По прошествии лет она будет понятна каким-нибудь новым Фроловым, специалистам уже по нашим двадцатым. А вот то, что останется общедоступным, и есть слабое место романа.
Как можно трактовать принудительное помещение Фролова в расстрельный Комбинат? Если отсечь всю актуальность — это ближайшая аллегория жизни. Мы вброшены в неё без спроса и каждый день можем погибнуть от своего «пулемёта». Пикантность в том, что «жизнь» понимается в романе как состояние смерти, из которой герой донимает своих близких — мать и жену. При кажущейся простоте это вновь поразительно: достаточно представить, что нам звонят умершие. Как быстро любовь и воспоминания уступили бы место усталости и раздражению? Особенно при невозможности вновь встретиться и пожить? О, это была бы воистину невыносимая мука! Окончательность — очень сильная и, увы, полезная черта, которая позволяет нам остаться честными, уважающими себя людьми. То, что Фролов жив в своей смерти, мешает скорбеть его близким. Это даже ему мешает скорбеть! Отсюда и полная незаинтересованность других приговорённых к общению — лишённые точки, мы обречены бесцельно длиться непонятно во что и куда.
Эти вводные в романе обрабатывают служители культа: священник, мулла, раввин и буддист. Они удивляют тем, что выходят из привычного образа. Особенно хорошо сделан тувинский буддист — резко обрубающий весь пелевинский флёр. Но если принять за данность, что герой находится в некоем странном состоянии, которое вроде бы жизнь, но уже смерть, всё становится очевидным. В самом деле, зачем проповедовать, если человек уже умер? Поэтому буддист и сматывает удочки. Что он может добавить, если всё явлено непосредственно, если вот оно — чистое, не различающее форм страдание? Православный просто находится рядом, суть христианства — подержать за руку перед бездной. Что делают раввин и мусульманин? Раввин настолько обрусел, что пришёл к русской философии — водке, вопросу, окну. Но представитель ислама? Понять его наиболее сложно, хотя и наиболее интересно. Мулла объясняет: главное преимущество ислама в «определённости», что вроде должно подойти Фролову, лишённому окончательности, но на что он не может и не хочет пойти. Почему — вот главный вопрос.
Всё-таки здесь не хватило объёма. Форма у Данилова, как всегда, пригодна для анекдота, для обжигающей социальной истории. Это короткий абсурдистский рывок, финал которого касается вполне рациональных вещей. Всё работало на очинённости, на простоте. Но здесь — ввиду масштаба затрагиваемых тем — недоработало. Всё слишком быстро заканчивается, из-за чего вымаливание прощения у тюремщиков или пространственное отупление Фролова выглядят беспочвенными. Ничего не успело произойти: представителям традиционных религий выделили по два эпизода; три короткие заповторенные строчки старят пространство тюрьмы.
Это прямое следствие остранения. Создавав однообразную, натурформалистскую реальность, текст вынужден был примириться с тем, что схематичность киноязыка не смогла передать то, что так мастерски расчистила для восприятия. Оговорив филологические (Добычин, Пильняк), политические (современная Россия, современная кандальная этика), бытийные интерпретации (оставленность, ненужность, брошенность человека), текст должен был вырулить если не к выводу, то к означению каких-то горизонтов, возможностей, направлений. А этого в романе не просто нет — подобное там вообще невозможно, ибо вступает в конфликт с намеренно разреженным повествованием.
Текст лишь поигрался со «степенями свободы», когда широкий выбор личных поведенческих стратегий, даже непослушания, окован по периметру приговором расстрела. Ещё нашёл несколько заманчивых наблюдений: что есть вот русский типаж служаки, что материться — интеллигентная привычка, и что у русских важное «со смешком, с усмешечкой». То есть роман блестяще означил вводные, а потом как бы устранился. Это вообще характерно для Данилова, который не устаёт повторять, что надо писать так, чтобы читатель сам заполнил лакуны. Но рассматривая такие величественные категории, как жизнь и смерть (причём в пределе, в пулемётной данности), нет ничего более жестокого, чем оставить читателя наедине с прожорливым дулом.
Это как-то даже… зло, что ли. Тем более в финале романа есть действительно злой момент. Это уничтожение женой Фролова молодого писателя, издающего на Riderò рассказы с оборотами про «красноватые всполохи вечернего неба». Очень точно, очень желчно и очень… зло. Такое неожиданное слово, что его только троеточием оттенять. К чему эта длинная, почти финальная сцена? В общих чертах — к тому, что на пустотах («ямах», как выражается Светлана) нельзя ничего построить. Ни в литературе, ни в жизни. Но ведь сам роман выстроен по той же пустотной технологии: да, от таланта, но он тоже копает яму, укрепляет стенки, утаптывает дно, а потом оставляет там читателя. Выбирайся, мол. Заполняй лакуны. Твори. Додумывай. Передавай привет.
То есть вот если совсем просто. Дмитрий Данилов благодаря своему уникальному и потому только им повторимому методу (создание пустотности, которую вынужден заполнить читатель) блестяще означил проблему, но в силу её масштабов (вопрос жизни, вопрос смерти) оказался не способен предоставить читателю какого-либо ответа. Да, конечно, на это никто не способен. Это пророком нужно быть, кем-то единосущным. Но и вдруг уводить куда-то Фролова в духе исчезнувшего Добычина — какая-то детская хитрость, когда нужно хоть как-то выпутаться из самим же созданной ситуации. Но не получается, ловят на собственных же словах. В данном случае про «ямы».
Ну штош. Бывает и так.
Роман-то всё равно хороший.
Антон Осанов – литературный обозреватель, редактор-фрилансер. Фото: textura.club








