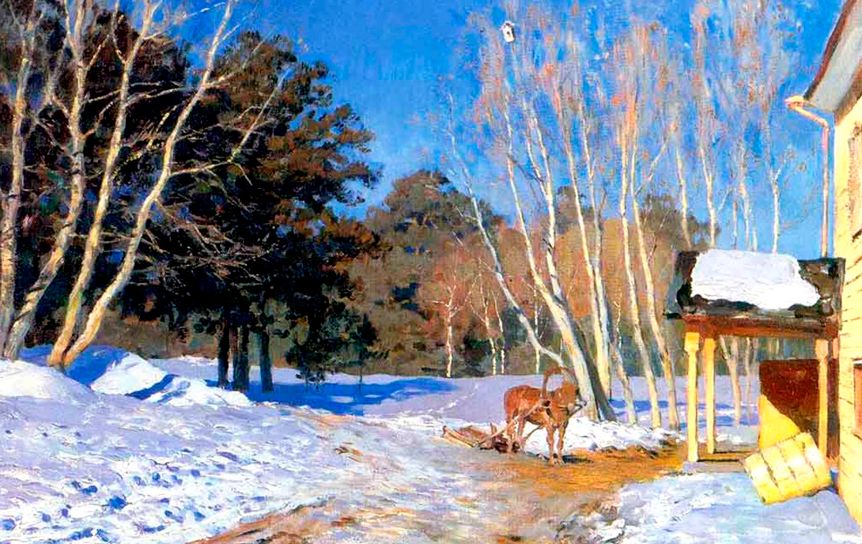Интервью: Михаил Визель
В этом году истек срок действия авторского права на "1984". Это сыграло роль в том, что вы взялись за новый перевод? Или просто «так совпало»? Если так, то что именно совпало?
Леонид Бершидский: Мне кажется, "Альпина" искала переводчика именно по этой причине. Но книга эта не простая, и надо же было копирайту истечь именно сейчас, когда вся жизнь – сплошные из нее цитаты. Все это как бы 1984-лайт, но Оруэлл же и не призывал читать роман буквально. Это книга про свободу и несвободу, и механика несвободы описана там четко и безжалостно, пусть результаты действия этой механики и утрированы. В современных медиа уж точно каждый в какой-то степени Уинстон Смит, хотя не каждый признается в этом даже себе.
Несмотря на то, что сам текст "1984" теперь public domain, при перепереводах классических произведений, вошедших в русскую культуру, возникают специфические копирайтные вопросы. Например, милновский Пятачок – это "творение" Бориса Заходера, и новому переводчику пришлось заменить его на "Хрюку", что вызвало бурю возмущения у читателей, которые даже возвращали книги в магазины. Оруэлл тоже придумывал словечки, например, знаменитый newlang, который мы все знаем как "новояз". Столкнулись ли вы с этой проблемой? Или я ее преувеличиваю?
Леонид Бершидский: Newspeak вообще-то, а не newlang. Именно поэтому новоречь, а не новояз, и в моем переводе, и в самых первых русских переводах "1984", появившихся в 1950-е годы. Вот, допустим, и «Пятачок», и «Хрюка» – неточные переводы имени Piglet («Подсвинок»). А новоречь задумана как разговорный язык пропаганды, язык ораторов, потому корень speak, а не lang. Лингвистическое приложение в конце "1984" – документ очень педантично составленный, я начинал переводить именно с него. Виктор Голышев, автор канонического перевода, подошел к делу иначе; я его в прошлом году про это спросил, и он сказал, что лингвистическое приложение перевел в конце. Отсюда много текстуальных различий. Я считаю, что мой перевод позволяет посмотреть на книгу с другой стороны, чем голышевский, – то есть имеет смысл читать оба. И да, его перевод – великолепный. Местами вызывает острую зависть.
Что касается читателей, несущих Хрюку обратно в магазин, – наверное, их гардероб состоит из пяти одинаковых костюмов, десяти одинаковых рубашек и трех одинаковых галстуков. А может, они вообще носят форму? Великую книгу читают ведь не один раз, и разные переводы помогают читать всякий раз по-новому.
В "Альпине" только что вышел огромный том дневников Оруэлла; это часть общего проекта, или тоже "так совпало"?
Леонид Бершидский: Думаю, в этом издательстве, как и много где еще, сейчас много думают об Оруэлле. В СССР не стали издавать его ранние, вполне левацкие произведения, потому что во время Гражданской войны в Испании он связался с "неправильной" фракцией испанских леваков. Сейчас, того гляди, опять нельзя будет его издавать. Думаю, "Альпине" скоро придется указывать в выходных данных, что я "иностранный агент." В этом смысле я бы на их месте выпустил по возможности все, что пока еще можно, а завтра – неизвестно, будет ли дозволено.
Вас трудно назвать новичком в работе с текстами; но это же ваш первый серьезный переводческий опыт? Как впечатления? Собираетесь ли продолжить?
Леонид Бершидский: Новичок – это такое отравляющее вещество. А я, конечно, вообще не новичок. В некотором смысле вся моя нынешняя жизнь – переводческий опыт. Я до 14 лет знал только русский, а теперь, в 49, живу – так уж вышло – на выученных языках: работаю на английском (а в последнее время все больше на Python), а вся среда, кроме семьи, немецкоязычная (да и младшая дочь, например, уже предпочитает немецкий. Когда думаешь каждый день на нескольких языках, перевод – это просто такой образ мысли: постоянно сопоставляешь понятия, подходы к жизни, идиомы, идеологемы. Когда сидишь и переводишь хороший литературный текст, этот процесс просто становится более осознанным и доставляет больше удовольствия. В прошлом году я перевел "Процесс" Кафки, еще одну своевременную книгу. Когда переводишь, читаешь в десять раз внимательнее. Я ради этого и берусь за такие проекты – денег ими не заработаешь, зато некоторые определяющие книги начинаешь гораздо лучше понимать. А заодно и окружающую реальность.

«1984» Джордж Оруэлл. Перевод: Леонид Бершидский.
Изд-во «Альпина Паблишер», 2021
Фрагмент романа. Часть 2
1.
Через пару часов после начала рабочего дня Уинстон отлучился из своей ячейки в туалет.
Навстречу ему по длинному, ярко освещенному коридору двигалась одинокая фигура. Та девушка с темными волосами. Четыре дня прошло с тех пор, как он столкнулся с ней у лавки старьевщика. Приближаясь, Уинстон увидел, что у нее подвязана рука. Издали незаметно — перевязь синяя, одного цвета с комбинезоном. Видимо, повредила, поворачивая большой калейдоскоп, на каких начерно строят сюжеты романов. Обычная травма для худлитсека. Между ними оставалось метра четыре, когда девушка споткнулась и упала, растянувшись во весь рост. У нее вырвался крик боли: видимо, ударилась поврежденной рукой. Уинстон встал как вкопанный. Девушка поднялась на колени. Лицо ее сделалось молочно-желтым, и губы на нем казались особенно красными. Она смотрела прямо ему в глаза с мольбой, в которой читался скорее страх, чем боль.
В сердце Уинстона шевельнулось необычное чувство. Вот перед ним враг, который желает ему смерти. Но это еще и живой человек, которому больно. Вдруг у нее перелом? Он инстинктивно потянулся к ней, чтобы помочь; когда она упала, боль словно отдалась в его теле.
— Больно? — спросил он.
— Ерунда. Рука. Сейчас пройдет.
Ее голос звучал как при сильном сердцебиении. И эта бледность!
— Ничего не сломали?
— Нет, все нормально. Просто ушиблась, и все.
Она протянула ему здоровую руку, и он помог ей подняться. На ее щеки возвращался румянец — похоже, ей уже намного лучше.
— Ерунда, — повторила она сухо. — Просто слегка ушибла руку. Спасибо, товарищ!
С этими словами она двинулась дальше таким бодрым шагом, словно с ней и правда ничего не случилось. Все происшествие заняло полминуты, не больше. Не давать эмоциям отразиться на лице — это уже инстинкт, к тому же дело было прямо перед телевидом. И все же Уинстон лишь с трудом не выдал удивления: в тот краткий миг, когда он помогал ей подняться, она что-то сунула ему в руку. Вне всякого сомнения, намеренно. Что-то маленькое и плоское. Открывая дверь в туалет, Уинстон сунул руку в карман и определил наощупь, что это сложенная прямоугольником бумажка.
Стоя перед писсуаром, он изловчился развернуть ее прямо в кармане. Наверняка это записка. У него возник соблазн запереться в кабинке и тут же ее прочитать. Впрочем, он отлично понимал, что это безумие. Уж там-то телевиды наблюдают непрерывно.
Он вернулся в ячейку, сел, небрежно швырнул записку на стол к другим бумагам, надел очки и подтянул к себе речепис. «Пять минут, — сказал он себе, — пять минут как минимум». Сердце так колотилось у него в груди, что ему казалось, будто он слышит стук. К счастью, он работал над вполне рутинным поручением — правил длинную колонку цифр, что не требовало особой внимательности. Что бы ни было написано на листке, дело наверняка политическое. Уинстон видел два возможных варианта. Первый и наиболее вероятный: девушка — агент Думнадзора, как он и боялся. Непонятно, зачем Думнадзору доставлять сообщения таким способом, но, возможно, у них на то свои причины. В записке может быть и угроза, и вызов, и приказ покончить с собой, и какая-нибудь разводка. Однако он упрямо гнал от себя и другой, более причудливый сценарий: записка вообще не от Думнадзора, а от какой-то подпольной организации. А вдруг Братство все-таки существует! А вдруг девушка в нем состоит! Конечно, сама мысль об этом абсурдна, но она не покидала Уинстона с момента, когда он нащупал бумажку. Только через пару минут ему пришло в голову другое, более вероятное объяснение. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка наверняка будет стоить ему жизни, он в это не верил, а тешился неразумной надеждой. От этого так колотилось его сердце, и он с трудом скрывал дрожь в голосе, бормоча цифры в речепис.
Закончив работу, он свернул бумаги и сунул их в пневмотрубу. Прошло уже восемь минут. Он поправил на носу очки, вздохнул и придвинул к себе следующую порцию бумаг — сверху как раз лежала записка. Он разгладил ее и прочел крупные неровные буквы:
Я тебя люблю.
Это так его ошарашило, что он не сразу, лишь через несколько секунд, отправил улику в провал памяти. А перед тем, как все же это сделать, не удержался — даже зная, что проявлять излишний интерес опасно, — и перечитал записку, чтобы удостовериться, что ему не померещилось.
Доработать до обеда оказалось непросто: он не только едва мог сосредоточиться на череде нудных заданий, но и с трудом скрывал от телевида возбуждение. В животе у него точно разожгли костер. Новая мука — обедать в жаркой, шумной, набитой до отказа столовой. Уинстон надеялся в перерыв хоть чуть-чуть побыть в одиночестве, но — вот невезение — рядом с ним плюхнулся кретин Парсонс, заглушая резким запахом пота металлическую вонь от жаркого и непрерывно болтая о подготовке к Неделе ненависти. Особое воодушевление вызывала у него двухметровая голова Старшего Брата, которую его дочь со своим отрядом Лазутчиков мастерит из папье-маше. Уинстона особенно раздражало, что из-за всеобщего гвалта он едва слышит Парсонса, постоянно его переспрашивает — и выслушивает каждую глупость дважды. Лишь один раз он сумел взглянуть на девушку: она сидела с двумя другими в дальнем конце столовой. Она, кажется, его не заметила, и больше он в ту сторону не смотрел.
После обеда стало полегче. Пришло хитрое, сложное поручение на несколько часов работы, ради которого все прочее пришлось отложить. Требовалось подделать ряд производственных отчетов двухлетней давности так, чтобы бросить тень на одного важного члена Внутренней партии, находящегося нынче под подозрением. Такое Уинстону хорошо удавалось. Больше чем на два часа он сумел выбросить девушку из головы. А потом снова всплыло перед глазами ее лицо и остро, нестерпимо захотелось уединения. Пока вокруг люди, невозможно обдумать все эти новые обстоятельства. А ведь вечером ему надо быть в культурно-спортивном центре. Он запихнул в себя безвкусную столовскую еду, примчался в КСЦ, с серьезным видом принял участие в пародии на «дискуссионную группу», сыграл две партии в настольный теннис, опрокинул несколько рюмок джина и высидел полчаса на лекции «Англизм и шахматы». Душа его изнывала от скуки, но на этот раз он даже не порывался пропустить вечер в КСЦ. От слов «я тебя люблю» он преисполнился желания пожить подольше, и идти на риск ради мелочей теперь казалось глупостью. Только в двадцать три часа, уже в постели, недосягаемый в темноте и тишине даже для телевида, он смог сосредоточиться и подумать.
Перед ним логистическая проблема: как связаться с девушкой и устроить свидание. Версию, что она расставляет на него капкан, он отмел — из-за ее очевидного возбуждения в момент передачи записки. Ей явно было до полусмерти страшно, что неудивительно.
Отвергнуть девушку даже не приходило ему в голову. Всего пять дней назад он собирался размозжить ей голову булыжником, но это уже не играло роли. Уинстон представлял себе ее обнаженное юное тело, каким оно привиделось ему во сне. Раньше ему казалось, что она глупа, как все прочие, что голова ее набита ложью и ненавистью, а внизу живота у нее ледышка. Теперь же Уинстона жгла мысль, что он может ее потерять, что это белое девичье тело может ускользнуть от него. Больше всего он боялся, что она попросту передумает, если он не найдет способа быстро откликнуться. Но логистика казалась невероятно сложной — все равно что в шахматах найти нужный ход, когда тебе уже мат. Куда ни глянь, всюду несут вахту телевиды. Вообще-то все возможные способы связи пришли ему в голову в первые пять минут после прочтения записки. Но теперь, когда у него есть время, можно обдумать их один за другим — словно раскладываешь на столе инструменты.
Очевидно, такая встреча, как сегодня утром, повториться не может. Если бы девушка работала в архсеке, увидеться с ней было бы сравнительно просто, но где в здании находится сектор художественной литературы, Уинстон имел лишь смутное представление, да и убедительного повода туда идти у него не было. Если бы он знал, где живет девушка и в какое время уходит с работы, то мог бы подстеречь ее где-нибудь по дороге домой — но идти за ней от самого главка небезопасно: тогда придется болтаться без дела у входа, а это непременно заметят. Послать письмо по почте — ни в коем случае. Все письма вскрываются, это ни для кого не секрет — такова процедура. Собственно, и писем-то почти не пишут. Для стандартных посланий есть напечатанные открытки с набором готовых предложений: вычеркиваешь ненужные, и все. В любом случае он все равно не знает даже имени девушки, не говоря об адресе. Наконец он решил, что самое безопасное место — столовая. Если получится сесть с ней вдвоем за один столик где-нибудь в середине зала, подальше от телевидов, да чтобы вокруг погромче разговаривали, — словом, если удастся создать эти идеальные условия хотя бы на полминуты, то можно будет и перекинуться парой слов.
Всю следующую неделю он жил как в тревожном сне. Назавтра она появилась в столовой после свистка, когда он уже собирался уходить. Видимо, ее перевели в более позднюю смену. Они разминулись, не глядя друг на друга. На другой день он застал ее в столовой в обычное время, но с тремя коллегами и прямо под телевидом. Следующие три кошмарных дня она не появлялась вовсе. И разум, и тело Уинстона словно обрели невыносимую чувствительность, сделались такими уязвимыми, что каждое движение, каждый звук, каждое касание, каждое слово, которое ему приходилось произнести или выслушать, — все отзывалось мучительной болью. Даже во сне Уинстона преследовал ее образ. К дневнику он в эти дни не прикасался, а если и находил облегчение, то в работе, которая иногда позволяла ему забыться минут на десять. Он ломал голову, что же с ней случилось. Навести справки — невозможно. Испарили, покончила с собой, перевели на другой конец Океании? Или, может быть, все еще хуже: она просто передумала и теперь его избегает?
И вот она появилась снова: ей уже не нужно подвязывать руку, достаточно полоски пластыря на запястье.