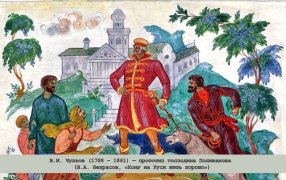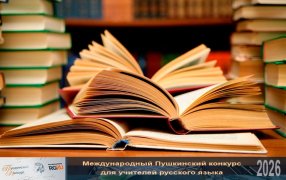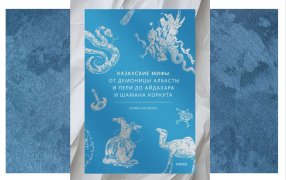Текст: Ольга Лапенкова
Если вы, уважаемый читатель, любите на досуге смотреть сериалы, то вам наверняка знакомы термины «приквел», «сиквел» и «спин-офф». Для остальных поясним.
Приквел – это дополнительный фильм или целый новый сериал, в котором показывается, что происходило с полюбившимися героями много лет назад. Сиквел – то же самое, только наоборот: «прыжок» на какое-то время вперёд. А спин-офф – это произведение, связанное с исходным лишь косвенно: в нём раскрываются либо истории второстепенных героев, либо дополнительные сюжетные линии и эпизоды, которые ранее особого внимания не привлекали.
Так вот, если применять современные киношные термины к произведениям Твардовского, то окажется, что у «Василия Тёркина» есть любопытный спин-офф. И называется он уж совсем неожиданно: «Тёркин на том свете». Посвящено это произведение вовсе не Великой Отечественной войне, а критике сталинского строя. А самое неожиданное в этой истории – то, что поэма, в которой загробным миром руководит лично Иосиф Виссарионович Сталин, после нескольких лет «боданий» была благополучно напечатана. Правда, прошло ещё какое-то время, и за насмешливую потусторонщину Твардовскому всё-таки прилетело. Но – обо всём по порядку.
Смерть и воин
Прежде чем вместе с героями отправляться в преисподнюю, напомним, что поэма «Василий Тёркин» – произведение о бравом солдате, который даже в сложнейших ситуациях не терял оптимизма и чувства юмора, – публиковалась во время Великой Отечественной войны отдельными главами. По сути, поэма построена как любой ситком – сериал, в котором у каждого эпизода есть законченный сюжет.
Одна из глав называется «Смерть и воин». В ней тяжело раненный Тёркин цепляется за жизнь. Лёжа прямо в снегу и изнемогая от повреждений, Тёркин ведёт самоуверенный диалог с самой Смертью и раз за разом твердит, что не сдастся ей. А затем, чувствуя, как силы его покидают, почти соглашается отправиться на тот свет – но только с одним условием.
- — Я не худший и не лучший,
- Что погибну на войне.
- Но в конце её, послушай,
- Дашь ты на день отпуск мне?
- Дашь ты мне в тот день последний,
- В праздник славы мировой,
- Услыхать салют победный,
- Что раздастся над Москвой?
- Дашь ты мне в тот день немножко
- Погулять среди живых?
- Дашь ты мне в одно окошко
- Постучать в краях родных,
- И как выйдут на крылечко, —
- Смерть, а Смерть, ещё мне там
- Дашь сказать одно словечко?
- Полсловечка?
- — Нет. Не дам…
Получив отказ, Тёркин вновь заявляет, что умирать не собирается. И, уже теряя сознание, всё-таки дожидается подмоги. На поле боя приходят фронтовики из «похоронной команды». Из последних сил Тёркин подаёт голос. Изумившись, что спустя столько часов раненый воин ещё жив, солдаты поднимают Василия и несут его в санбат, то есть в санитарный батальон.
Снова проведём параллели с миром кино: в современных сериалах, особенно мистических, герои то и дело переживают клиническую смерть, во время которой у них случаются прозрения. Всерьёз пользоваться таким приёмом сейчас уже немного стыдно – настолько он избитый. Но во времена Твардовского «воскрешение» главного героя, успевшего за время отключки побывать в иных мирах, ещё не было штампом. Так что ругать Александра Трифоновича не нужно – наоборот, стоит присвоить ему гордое звание первопроходца.
Но вернёмся к «Смерти и воину». Судя по тексту продолжения, в санбате Василию поплохело ещё сильнее, и медикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить бойца с того света. А пока проводились реанимационные мероприятия, Тёркин успел «нагулять» ещё одну поэму. И очень, очень обрадоваться тому, что вернулся с того света на этот. Потому что в реальности ещё можно надеяться на позитивные изменения в стране, а там…
Ад не пуст
Подобно Данте Алигьери, который в «Божественной комедии» сослал в ад тех, кто очень уж ему насолил, Твардовский помещает в потусторонние декорации многочисленных приверженцев коммунистического режима, трудящихся, однако, вовсе не на благо народа.
Очутившись на том свете, Тёркин оглядывается. Загробный интерьер чем-то напоминает метрополитен: низкие своды, перекрытия. И, кстати, очень чисто, «не приткнуть окурок». Пока не понимая, что обо всём этом думать, Тёркин идёт куда-то вперёд – и тут же натыкается на «того света коменданта», окружённого охранниками. Комендант устраивает Тёркину небольшой допрос, а потом отправляет бойца улаживать формальности. И Твардовский с явным удовольствием принимается обличать бюрократическую машину (бесконечные бумажки и справки, которые подчас важнее того, что в них говорится), которую критиковал ещё В. В. Маяковский в стихотворении «Прозаседавшиеся».
Не успевает Тёркин дойти до подземной канцелярии, как его отчитывают за отсутствие аттестата – документа, где изложена личная характеристика солдата, отмечены его перемещения и достижения. Просьба адских «сотрудников» абсурдна, но доказать свою правоту у Тёркина не получается.
- Тотчас всё на карандаш:
- Имя, номер, дату.
- — Аттестат в каптёрку сдашь, —
- Говорят солдату.
- Удивлён весьма солдат:
- — Ведь само собою —
- Не положен аттестат
- Нам на поле боя.
- Раз уж я отдал концы —
- Не моя забота.
- — Все мы, братец, мертвецы,
- А порядок — вот он.
- Для того ведем дела
- Строго — номер в номер, —
- Чтобы ясность тут была,
- Правильно ли помер.
- Ведь случалось иногда —
- Рана несмертельна,
- А его зашлют сюда,
- С ним возись отдельно…
Взяв эту информацию на заметку, Тёркин начинает подумывать, как бы ему вернуться в мир живых. Но перейти к активным действиям он не может: впереди ещё уйма формальностей. Покойному бойцу предстоит доложить обо всех родственниках (а вдруг кто-то из них был недоволен властью или ещё в чём-нибудь замешан?), предоставить фотокарточку и сдать отпечатки пальцев. После этого к нему явится экскурсовод, который – опять же как в «Божественной комедии» – будет водить умершего по загробному миру и объяснять, как тут что устроено. Хотя, конечно, в намного более издевательском, чем у Данте, тоне.
- Вечный сон. Закон природы.
- Видя это всё вокруг,
- Своего экскурсовода
- Тёркин спрашивает вдруг:
- — А какая здесь работа,
- Чем он занят, наш тот свет?
- То ли, сё ли — должен кто-то
- Делать что-то?
- — То-то — нет.
- В том-то вся и закавыка
- И особый наш уклад,
- Что от мала до велика
- Все у нас руководят.
- — Как же так — без производства,
- Возражает новичок, —
- Чтобы только руководство?
- — Нет, не только. И учёт.
Как уже говорилось, повелевает всем этим беспределом не названный по имени, но легко угадывающийся в некоем верховном демоне И. В. Сталин, которого Твардовский категорически не любил. Поскольку работу над поэмой Александр Трифонович начал ещё в 1944-м, когда вождь народов был ещё жив, в произведении поясняется, как такое оказалось возможным:
- — Всё за ним, само собой,
- Выше нету власти.
- — Да, но сам-то он живой?
- — И живой. Отчасти.
- Для живых родной отец,
- И закон, и знамя,
- Он и с нами, как мертвец, —
- С ними он и с нами. <…>
- Невдомек ещё тебе,
- Что живыми правит,
- Но давно уж сам себе
- Памятники ставит…
Бездарные журналисты, критики и цензоры, бюрократы и просто бездельники всех мастей – вот кто, как выясняет Тёркин, населяет загробный мир. Но вскоре оказывается, что это происходит в «советской» преисподней, а существует ещё и «буржуазная. За рубежом, в отличие от бесконечной волокиты, тоже не происходит ничего приятного, но в другом плане: тамошние обитатели круглосуточно предаются разврату.
- В чёткой форме отраженья
- На вопрос прямой ответ —
- До какого разложенья
- Докатился их тот свет.
- Вот уж точно, как в музее —
- Что к чему и что почём.
- И такие, брат, мамзели,
- То есть — просто нагишом…
Впрочем, «буржуазный» загробный мир, несмотря на все обличительные сентенции экскурсовода, очень даже привлекает и его самого, и других местных обитателей. Советские деятели даже установили «стереотрубу», через которую можно смотреть, что происходит в соседней преисподней. Но такое удовольствие доступно только привилегированному «загробактиву».
Заканчивается поэма позитивно: заболтав экскурсовода, Тёркин сбегает с того света и возвращается в санитарный батальон. Он снова оказывается на войне, но даже так – лучше, чем на том свете. Тем более что ему, тяжело раненному, можно ещё немного отлежаться. Да и в военное время бывают праздничные дни: Василий приходит в себя в новогоднюю ночь.
- Поздравляют с Новым годом.
- — Ах, так вот что — Новый год!
- И своим обычным ходом
- За стеной война идёт.
- Отдохнуть в тепле не шутка.
- Дай-ка, думает, вздремну.
- И дивится вслух наука:
- — Ай да Теркин! Ну и ну!
- Воротился с того света,
- Прибыл вновь на белый свет.
- Тут уж верная примета:
- Жить ему ещё сто лет!
Перемена взглядов
Сюжет «Тёркина на том свете» показывает Твардовского как непримиримого противника сталинского режима. Однако Александр Трифонович придерживался подобных взглядов не всегда. В юности и в молодости он, наоборот, был его убеждённым сторонником. И даже написал поэмы «Путь к социализму» (1931) и «Страна Муравия» (1936), где восхвалял коммунистический строй и политику партии.
Вера в то, что при коммунизме будет торжествовать справедливость и каждый член общества сможет рассчитывать на поддержку в трудной ситуации, была присуща многим. Но у Твардовского подобные убеждения сформировались не благодаря, а вопреки ситуации в стране и, более того, в семье.
Отца и маму Александра Трифоновича признали «кулаками», то есть «чрезмерно» богатыми людьми, чьё имущество требовалось принудительно отдать в руки коллектива. Если человека признавали «кулаком» и он был готов сотрудничать с советской властью, с ним могли обойтись относительно мягко, но отец поэта сопротивлялся новым порядкам как мог. Ведь он вовсе не был беспечным барином: наоборот, ему всю жизнь приходилось тяжело работать, чтобы обеспечивать семью. Поэтому с Твардовским-старшим поступили сурово: его дом сожгли, а его самого с супругой и оставшимися сыновьями выслали из Смоленской области и отправили аж на Урал.
Александру Трифоновичу, разумеется, такое положение дел радости не доставляло. Разлучаться с любимой семьёй, а уж тем более – на долгие годы ссориться с родными ему не хотелось. Но он был убеждённым сторонником советской власти – и свято верил в коммунистические идеалы, в то, что всё происходит правильно.
В своих взглядах поэт разочаровался не в момент высылки родителей, а через много лет. И на смену «Стране Муравии» пришли новые, уже обличительные, вещи – и «Тёркин на том свете» яркое тому подтверждение.
Самое удивительное, что скандальное произведение Александру Трифоновичу даже удалось напечатать. После смерти Сталина началась борьба с так называемым «культом личности» бывшего правителя. Поэтому поэма Твардовского, за публикацию которой раньше он мог бы оказаться в лагере, теперь оказалась вполне уместной. В 1963 году она вышла на страницах газеты «Известия», затем – журнала «Новый мир», главным редактором которого был сам Твардовский, а потом появилась в качестве отдельного издания. Поэмой зачитывались миллионы ценителей литературы (и критиков советского режима).
Вот только происходило это всё, когда генеральным секретарем ЦК КПСС (если говорить проще и с некоторыми оговорками – главой Советского Союза) был Н. С. Хрущёв. А уже в 1964-м власть снова сменилась. Сменивший его на посту Л. И. Брежнев наказал Твардовского за вольнодумство и лишил поста главного редактора «Нового мира», что стало для Александра Трифоновича тяжелейшим ударом.