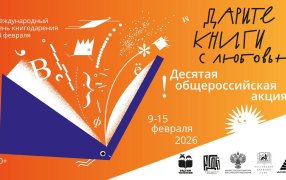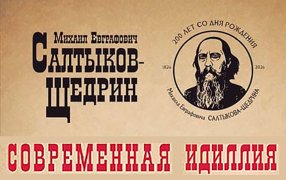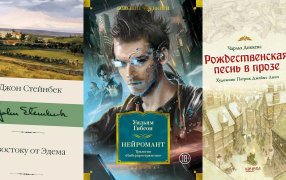Юлия Долгановских. «что за бред неуклонный…»
- Prosodia, 12 июня 2025
- ***
- что за бред неуклонный
- несклоняемый бред
- я вернулся в тот гоголь которого нет
- с головою отставшей от тела то вбок
- то с рассохшейся крышкою поперёк
- хоть шаром покати литургический сон
- с горя кубарем кубиком с хлебом-вином
- подворачивая белокрылый бочок
- замолкает и всё навигатор-волчок
- и какой-то неведомый чаятель
- крутит влево тепла выключатель
- а какой-то дверной попечитель
- вправо крутит увеличитель

Интересна контаминация в первом катрене этого стихотворения («я вернулся в тот гоголь которого нет»): одновременно Мандельштам («Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…») и песня из фильма «Бандитский Петербург», с заменой «города» на имя нарицательное «гоголь». Возможно, именно такая эклектика наилучшим образом отражает состояние современного человека, оказавшегося в мире комического абсурда. Обэриутско-чуковский мир вещей, сошедших с ума, не подчиняющихся хозяину, живущих по собственным законам. Открытый финал стихотворения от этого особенно жуток – что дальше, в мире победившего бессилия?
Вася Чернышев. «по траве летает ветер…»
- «журнал на коленке», 25 мая 2025
- ***
- по траве летает ветер
- и не слышно насекомых
- за разбитой синагогой
- ходят люди в белых ризах
- спит вода в каменоломне
- люди в белом рвут растенья
- стебельки в венки сплетают
- спят останки синагоги
- и не слышно насекомых
- где-то потерялось имя
- вплетено в венок с другими
- по воде в каменоломне
- чередой плывут соцветья
- ты прекрасней всех созвездий
- через сто тысячелетий
- за разбитой синагогой
- на заброшенной планете
- я сорву тебя у края
- берегов каменоломни
- до свидания, дорогая.

Мир распавшихся букв и попытка их соединить – лейтмотив подборки Васи Чернышева: в одном из стихотворений – аллюзия на Лорку, снижающая метафизический пафос («я твои повторяю буквы, / не имея отваги на имя»). Констатирующая безнадёжность («мне нужно обратно»), прямолинейность констатаций этого отчаяния («но нету дома у меня, / шатаюсь как больной») на месте возможного ухода в ностальгические переживания или ассоциативное словоплетение – то, что заставляет внимать этим стихам. Стихотворение «по траве летает ветер…» несколько отличается на фоне стилистики подборки: возможно, как раз преобладанием работы языка в противоположность непосредственной передаче состояний. Стоит отметить и обаяние этого текста, которое создаётся во многом благодаря переменам рифменной системы: белый стих в сочетании с перманентно возникающими парными созвучиями и – вдруг – «привычным» рифменным чередованием, всё это на фоне сохраняемого размера. Такое сочетание уводит от конвенциональности.
Марина Марьяшина. «проведи меня садом…»
- Prosodia, 9 июня 2025
- ***
- проведи меня садом
- электрическим током
- в захолустии самом
- стану света истоком
- стану лампочкой жёлтой
- мошкаринной ловушкой
- не стрелецкою жёнкой
- а царевной-лягушкой
- вот и кожа слетает
- и сверкают чешуйки
- за окном уж светает
- и тепло от буржуйки
- но спасибо что кожу
- поберёг лягушачью
- и теперь я похоже
- по себе не заплачу
- не свинчу за три моря
- в тридевятое царство
- и больное дрянное
- позабуду пацанство
- стану круглое что-то
- желтый свет на веранде
- невесомая штора
- мать в цветастом халате

Ощущение себя на фоне другого мира – центральное в подборке Марины Марьяшиной; то на фоне пушкинского памятника с «птичьим лицом», то собственного «болевого дрянного» пацанского прошлого, то – любимого человека, у которого просишь с аллюзией на Ольгу Берггольц («тебе бы, наверно, другую, / светлей и отрадней, чем я»): «но прости, пожалуйста, меня, / что к тебе дошла уже не целой, / с батарейкой битой, севшей в ноль, / бледная, под стать люминесцентной / лампочке, горящей надо мной». Мир этот осязаемый, зримый, опирающийся на традиционные образы любви и материнства. Образ материнства у Марьяшиной значим и многообразно преломлён: то с одомашненной самоиронией, как в приведённом стихотворении («стану круглое что-то»), то – с явной отсылкой к известным жутковатым строкам Татьяны Бек: «летят в кровать несбывшиеся дети». В основе всего – психологическая развилка с её трудным и болезненным желанием гармонии на фоне изломанного прошлого. Уверен, здесь есть чему отозваться в сердцах наших современников; стихи к тому же хорошо сделаны, с редкостным версификационным мастерством.
Анастасия Волкова. «Не могла выговаривать буквы чтобы не говорить…»
- ПОЛУТОНА, 10 июня 2025
- ***
- Не могла выговаривать буквы чтобы не говорить
- Не могла посмотреть зрение остановилось
- А потом заплеталась кругом золотая нить
- Пробежала по горлу скажи на милость
- Разменяться на милостыню и на пустыню
- Тяжело оглядываться лиственницей и размывать
- У себя внутри по какой не кричи причине
- Убегает солнце водой солёной в тетрадь
- Убегают венки куда пойми или нет в помине
- Убегает деревце в полночь в страну угля
- А потом с другой стороны приплывёт на льдине
- Перейдёт на красный и снова будет земля

Мифопоэтические практики Анастасии Волковой напоминают о традиции Елены Шварц. Выверенная композиция заменяется здесь свободным течением стихотворения, которое само определяет свои границы; вместо логики – сверхлогика. Мир в её подборке – и «развлекательное бедствие», и «шестикрылый серафим», разом наблюдение и видоизменяющее действие; но главное, пожалуй, – позиция наблюдателя, взирающего на то, как история движется по кругу, убегающее предстаёт в своих трансформациях, после которых непременно «снова будет земля».
Михаил Дынкин. «Бог мой, розовый куст, Ты всё лето горел…»
- Знамя, № 7, 2025

- ***
- Бог мой, розовый куст, Ты всё лето горел,
- проступали глаза на листах и цветках,
- взгляд их в краску вгонял Твой садовый гарем...
- Помнишь, спорил с Тобой на семи языках,
- и любой из них был словно свист соловья
- с львиным рёвом басовых и лающим лис;
- и одетая в солнце, сама не своя
- выходила Жена из-за красных кулис?
- Ангел чайкой кричал над озёрной водой.
- Рыли ход в Преисподнюю люди-кроты.
- Пепел сад засыпал и мешался с едой,
- мазал сизым и серым жующие рты.
- На семи языках и ещё десяти
- спорил мальчик с Тобою, и это был я.
- А когда удавалось к Тебе подойти,
- ты пронзал моё сердце шипами огня.
- — Бог мой, розовый куст, для чего Ты, кому?
- Я и правда умру? Существует ли рай?
- — Мне всего лишь хотелось побыть одному,
- не мешай же, мальчишка, иди поиграй.
- Помню, как Ты погас, побледнел и исчез,
- как пинали Твой сад проливные дожди.
- А потом я вернулся в бессолнечный Энск
- с говорящим кустом в обожжённой груди.
Стихотворение Михаила Дынкина восходит к известному классическому тексту Заболоцкого, но доказывает, что прецедентный источник может быть только внешней – и плодотворной – интертекстуальной оболочкой, позволяющей в полной мере реализоваться возможностям слова и, скажем так, создать альтернативную автобиографию. Можжевеловый куст здесь – не «проколовший смертоносной игрой», но прообраз Бога в иовьем взволнованном вопрошании; ассоциативно воплощённое пространство для достоевского самоанализа.
Дмитрий Гвоздецкий. «Любимый поэт»
Формаслов, 15 июня 2025
Любимый поэт
- мой любимый поэт
- умер до того
- как я полюбил поэзию
- мой любимый поэт
- умер до того
- как я научился читать
- мой любимый поэт
- умер до того
- как я родился
- мой любимый поэт
- умер до того
- как родились мои
- мама с папой
- и бабушка с дедушкой
- и прабабушка с прадедушкой
- и прапрабабушка с прапра
- в общем вы поняли
- мой любимый поэт
- ещё не умер
- мой любимый поэт
- только-только родился
- ему ещё даже
- не перерезали пуповину
- мой любимый поэт
- умеет только лежать
- и плакать
- то есть уже научился всему
- что должен уметь поэт
- даже если
- мой любимый поэт
- будет лежать и плакать
- но никогда не достанет
- чернил
- он всё равно останется
- моим любимым поэтом

Стихотворение Дмитрия Гвоздецкого, как свойственно этому автору, предполагает множество интерпретаций. В нём можно увидеть линейный нарратив с возможной «отгадкой» (кто же он, любимый поэт?), но допустимым будет и «осколочное» восприятие – в таком случае перед нами возникнет полифоническое пространство, спектр многих голосов, что-то вроде разнообразия анкетных реплик с ответами на один и тот же вопрос либо однотипных ответов в ходе семинара. В стихотворении эксплицитно зашифрован образ Пастернака – что, впрочем, не предполагает единственной отгадки. Гораздо плодотворнее, думаю, было бы «танцевать» от мандельштамовских слов: «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день ещё не родился. Его ещё не было по-настоящему». Любимый поэт – что-то вечно пере- и первооткрываемое, только рождающееся, – даже если умер до рождения автора.
Лена Ванеян. «Старый клён с колотушкой»
Знамя, № 5, 2025
- * * *
- Старый клён с колотушкой
- бродит по лабиринту,
- в осколке зеркальца злого
- он старик с двустволкой.
- Криво слышу я, дети,
- иду-спотыкаюсь,
- глаз бинтую,
- затвор передёргиваю,
- самого колотит.
- Стёклышко моё недобитое,
- как ты в ухе стреляешь,
- сквозь бинт сверкаешь,
- куда зовёшь меня прогуляться.

Стихотворение Лены Ванеян представляется очень понятным на фоне остальных в нашей подборке – притом что, конечно же, имеет множество подводных слоёв. Песенный «старый клён» здесь превращается в «старика с двустволкой», пушкинское зеркальце – одновременно и образ разбитости, и непредсказуемости, движения в иные пространства. Та же непредсказуемость будущего и в другом стихотворении – идентификация себя с «духом гниющего клубня», некое ощущение иллюзии, ненастоящести, отстранения в происходящем с тобой; ложное самоощущение власти при автоматизме действий – «сам в мундире поешь» (работа с фразеологизмом); схожий пассивизм в заключительном тексте подборки – «и я есмь сердца секунда / болю невольно». Зрение Ванеян вновь и вновь преображает увиденное, сохраняя его земную, вещную основу, встраивая в ткань культурных аллюзий – многие из них объяснены в виде сносок к стихам, и это редкий случай, когда примечания не кажутся излишними.
Герман Власов. «В тишины угольное ушко…»
- Дружба народов, № 7, 2025

- ***
- В тишины угольное ушко,
- смотровой и белый кабинет
- можно, сняв одежду, и пешком
- удивленья тёплого на свет.
- До смешной припухлости желёз,
- до распочкованья немоты:
- кто здесь тихомолкою живёт
- и разводит белые цветы?
- Дует мне в затылок, добела
- протирает тоненький фарфор:
- Неужели ты не умерла –
- сколько времени прошло с тех пор?
- Сколько отшумело чёрных лет
- – столько я ботинок исходил?
- И на белизне оставлю след,
- а потом забуду, где я был.
- На салфетке в уличном бистро
- строчку запишу о тишине,
- о тебе, о снеге на Покров.
- Но опять чернил не хватит мне.
Удивительный простор воспоминания, свободный и всё же предельно дисциплинированный в своём развитии ассоциаций: здесь рифмуются и белый (очевидно, врачебный) кабинет, и белые цветы, и фарфор, и салфетка, – как, видимо, составляющие метафизического рая, припоминания, своеобразной отмены смерти. Последняя строка своеобразно перекликается и с пастернаковским «достать чернил» – вроде как подразумевается «слёз не хватит мне», но вместо этого такой сдержанный мужской эвфемизм. Одновременно в этой строке можно прочитать недостаток драмы, трагедии – в противоположность всё тому же просветляющему образу рая.
Александр Переверзин. «Три офорта».
- Цикл // Новый мир, № 7, 2025

- ***
- В дельте Дона печаль бездонна,
- вброд её перейти нельзя.
- В дельту Дона в конце сезона
- нас возили твои друзья.
- Там, где раньше сушился окунь
- и свисала с ветвей хурма,
- мертвецы улыбались из окон,
- приглашая в пустые дома.
- Засыхали колхозные вишни,
- наклонялся к траве забор.
- Приглашенья не приняли. Вышли
- на качающийся простор.
- Баржа шла до морского флота,
- переламывалась вода.
- Это будет в твоих офортах
- и останется навсегда.
- (Полностью – в июльском «Новом мире»).
Александр Переверзин остаётся верен своей поэтике: вещественная точность автобиографического перевоплощения – и пересечение границы с «тем» миром, которое особенно работает на контрасте с узнаваемым нарративом («мертвецы улыбались из окон, / приглашая в пустые дома»). Огромна роль подразумеваемого – которое не оскорбляется, по Гумилёву, более или менее вероятными догадками о нём. Возможно, столь разумно найденное соотношение между «наглядным» и «тайным», между подтекстом и зримой основой сильнее всего действует на читателя этих стихов.
Максим Глазун. «из плена в плен перелетая…»
- Дружба народов, № 7, 2025

- ***
- из плена в плен перелетая
- всё больше кажется пустая
- стряхнула бабочка пыльцу
- её гоняет ветер дикий
- над полем боя вой и крики
- и нестремление к концу
- листок оторванный кленовый
- напрасно новую основу
- приклеиться себе искал
- непримиримо остальное
- крыло разрезало стальное
- и не собраться по кускам
- что бог похож на беспилотник
- перед марией клялся плотник
- но та неверье предпочла
- а кто кружил над головами
- не объясняется словами
- наличием добра и зла
Ивановско-тарковская бабочка в стихотворении Максима Глазуна перелетает уже не из тени в свет, а из вчерашнего всполоха социальной реальности – в сегодняшний, становясь и беспилотником, и оторванным календарным листком прошлого, и бешеным рёвом над полем боя. Рационализм и определённая этическая подкладка в стихах Глазуна – прежде всего попытка философии средствами поэзии, но не квазифилософствования в стихах, как может поначалу показаться.