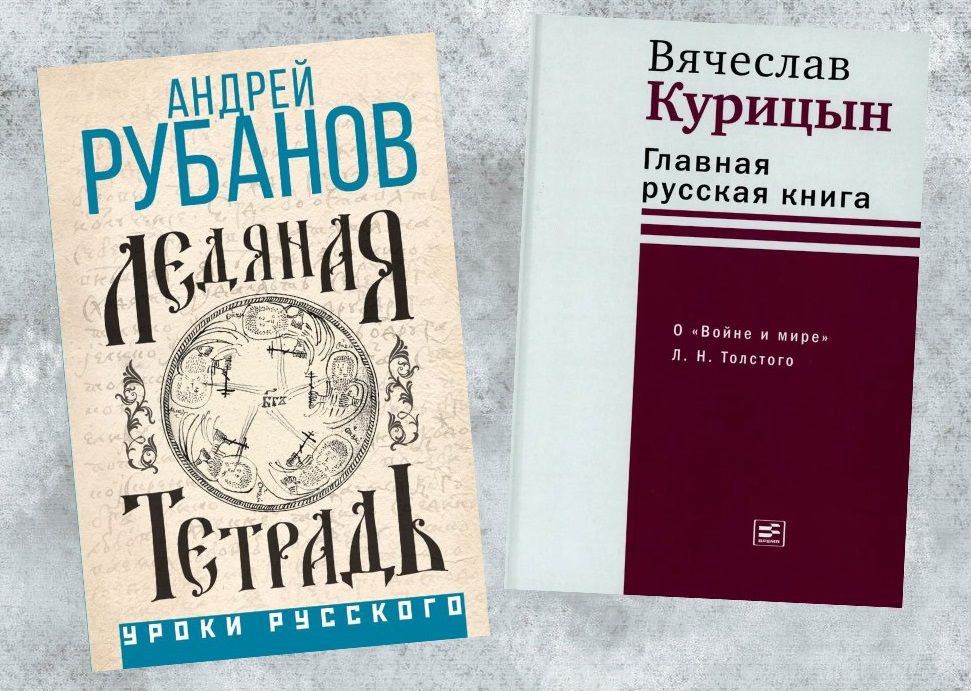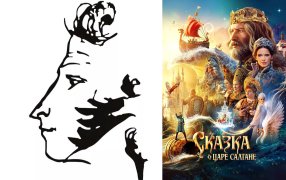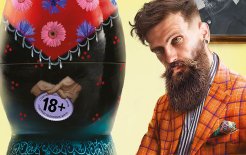Текст: Александр Марков
1
Если бы русская литература была картой, то Вячеслав Курицын обозначал бы на ней территории, скрытые под толстым слоем культурных кодов, а Андрей Рубанов — прокладывал бы маршруты по самым неудобным, но протоптанным тропам. Курицын, критик и теоретик, разбирает тексты, как часовщик — механизм: с холодным любопытством, находя в каждом винтике отголоски больших идей. Его эссе — это прогулки по лабиринту, где каждая дверь ведет не в комнату, а в новую теорию. Рубанова же интересует не устройство часов, а, как знают все читатели его мужской прозы, то, как они тикают в кармане у человека, который вот-вот полезет в драку.
Разница между ними — как между лекцией в университете и разговором на складе. Курицын говорит о литературе так, будто она уже стала историей, даже если написана вчера. Его анализ — археология смыслов, где каждая метафора — это черепок, требующий датировки. Рубанов же пишет так, будто завтра всё может исчезнуть, и люди, и деревни, и города, — и потому важно успеть зафиксировать сегодняшнюю боль, грязь и смех. Его герои — не персонажи, а свидетели, которые даже в вымышленном мире говорят голосами с улицы, насмерть защищая страну.
Книга Курицына — крупный план: кадр за кадром, скрупулезный разбор «Войны и мира», где каждый жест героя, каждая деталь интерьера становятся объектом почти кинематографического анализа. Курицын работает как оператор, который снимает Толстого в замедленной съемке, выхватывая то, что обычно ускользает. Рубанов же снимает ручной камерой, без стабилизации. Мерцающий свет «Ледяной тетради» — это не про то, как устроен текст, а про то, как текст взрывается в реальности. Протопоп Аввакум у него не икона, а бунтарь, чей голос дрожит от ярости и веры, будто записан на диктофон в подполье. Он доводит микроисторию до температуры обличения. Если Курицын раскладывает классику на пиксели, то Рубанов ищет в истории трещины, куда можно просунуть руку прямо сейчас, прощупывая, бьется ли пульс.
И все же обе книги — про то, как прошлое не отпускает. Только у Курицына оно — архив, где каждый документ нужно проявить в красной комнате, несколько старомодно, а у Рубанова — пленка, которую кто-то спешно закопал в лесу, и теперь ее надо отмыть от грязи, чтобы понять, кто патриот, а кто предатель. Обе книги — попытки заново прочитать русское прошлое, но если Курицын делает это через гипертекстуальность, превращая толстовский роман в поле самой азартной игры в русскую литературу, то Рубанов выбирает гиперреальность, где история старообрядчества становится зеркалом для современных расколов. Но оба знают: главный кадр всегда где-то между строк.
2
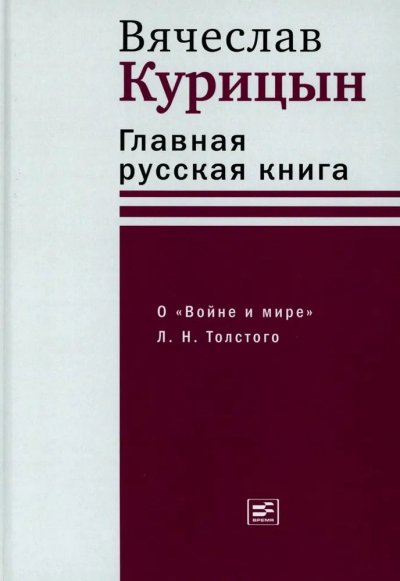
Курицын работает с текстом Толстого как с архивом, где каждая деталь — от бала до баталии — требует не просто анализа, но включения в широкий семиотический контекст. Его книга — аппарат критики, направленный на канон: не столько объяснение, сколько демонстрация того, как объясняется сам канон. Например, анализ Курицыным эпизода с Верой и Наташей Ростовыми раскрывает не просто динамику семейного конфликта, но и работу символических механизмов, регулирующих поведение персонажей. Зеркало, в которое смотрится Вера, становится метафорой рефлексии, но рефлексии ложной — ведь она не осознает себя объектом отторжения. Бегство четверых молодых людей — это не столько побег от ссоры, сколько акт символического исключения Веры из круга «своих».
Сцена между Анной Михайловной и графиней Ростовой демонстрирует, как экономический дискурс (жалобы на нищету) трансформируется в инструмент символической борьбы. Друбецкая, формально занимая подчиненную позицию, фактически диктует условия, используя риторику слабости как оружие. Сетуя, она совершает тонкий жест деконструкции власти: ее слова — не просьба, а стратегия. Она говорит о деньгах, но на самом деле перераспределяет символический капитал. Ее жалобы — это обратный ход качелей, где унижение становится оружием, а признание зависимости — формой доминирования. Графиня Ростова, вначале приниженная, внезапно возвышается — но не потому, что обрела силу, а потому, что Друбецкая позволила ей это возвышение. Возвышение статуса Ростовых в финале главы — не результат сценических действий, а следствие тонкой манипуляции, где граф, сам того не осознавая, становится исполнителем чужого сценария. Курицын показывает, как власть циркулирует в этих диалогах, оставаясь невидимой, но определяющей каждый жест и каждое слово.
Это мир. А вот война. Сцена убийства Верещагина — это не просто эпизод, а сгусток всей толстовской философии насилия. Толпа, колышущаяся «как одна масса», не может убить человека не потому, что не хочет, а потому что само насилие здесь становится процессом, а не результатом — бесконечным колебанием между «добить» и «бросить». Даже в этом хаосе есть свой ритм: топор мелькает не как орудие убийства, а как метроном, отсчитывающий такты коллективной истерии. А рядом — почти пародийный контраст: Пьер, не узнающий Наташу, будто нарочно демонстрирует, как индивидуальное восприятие отстает от событий, как глаз скользит по миру, не схватывая сути. Князь Андрей умирает дважды — но разве не так устроена вся книга, где каждый сюжетный поворот сначала намечается, потом исчезает, чтобы вернуться вновь?
Армейские сцены с их бесконечными переодеваниями — это же чистый театр абсурда, показывает нам Курицын. Солдаты меняют мундиры, как актеры костюмы между сценами, а Долохов в своей фабричной шинели — единственный, кто отказывается играть по правилам. Его фраза «я обязан исполнять приказания, но не обязан переносить оскорбления» – готовая реплика для пьесы Ионеско. Война у Толстого — это не стратегии и не подвиги, а бесконечное «расчистить и засыпать дорогу», серия бессмысленных перемещений туда-сюда. Даже князь Андрей в своем звездном порыве к славе оказывается марионеткой этих качелей: каждое его «движение вверх» (победа, золото раненым, огни Брюнна) немедленно компенсируется «движением вниз» (холод чиновников, известие о падении Вены). В этом мире нельзя просто победить — можно только качаться между триумфом и поражением, пока не остановишься на чем-то одном. Или не остановишься совсем.
Наконец, Курицын затрагивает и философию истории Толстого. В размышлениях Толстого о нечаянности истории ему слышится нечто большее, чем просто отрицание рационального замысла. Толстой, кажется, прикасается к тайне провиденциального хаоса, где «сложнейшая игра интриг» становится странным образом тождественной высшему промыслу. Как если бы сама стихия человеческих воль, сталкиваясь в бесчисленных сочетаниях, неведомо для участников творила ту единственную мелодию, которую можно назвать судьбой России. Но тут же возникает вопрос: почему эта мелодия должна звучать именно через такие жертвы? Почему спасение обретается не как дар, а как последнее, что остается после всех потерь? В этом парадоксе — вся неразрешимость богословского спора о свободе и предопределении, перенесенного на поле истории.
3
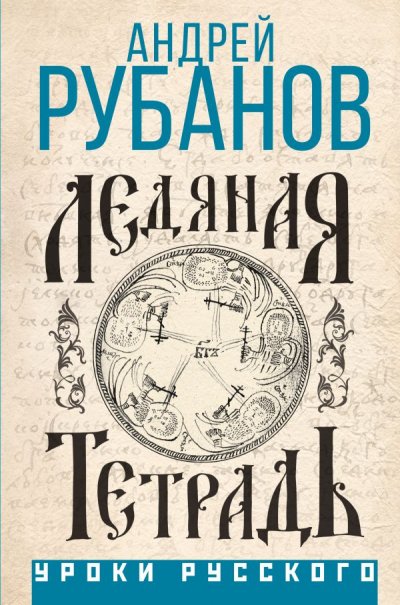
В сравнении с подходом Курицына подход Рубанова телесен до невозможности. Вот что остаётся: Никон, толстый от икры, умирающий где-то по дороге к своему Новому Иерусалиму, который так и не стал ни новым, ни Иерусалимом. Аввакум, худой до костей, пишет в землянке при свете лучины, и чернила замерзают на бумаге. Мы можем представить эту сцену — свеча, дрожащие пальцы, холод, проникающий сквозь шкуры, — но не чувствуем её. Мы знаем, что он выиграл, но не понимаем, что это значит. Победа выглядит как поражение: Пётр приходит, стрельцы рубят Матвеева на куски, Милославского выкапывают из могилы, чтобы пролить на него чужую кровь. История не заканчивается, она просто перестаёт быть историей и становится чем-то другим — петровскими реформами, окном в Европу, новым временем, где нет места ни Никону, ни Аввакуму. Они оба проиграли, просто один раньше, а другой позже. И теперь мы живём в этом «позже», где Сибирь — это клондайк, который когда-нибудь станет важным, а пока просто лежит там, промерзший и далекий, как обещание, которое никто не собирается выполнять. Мы верим в будущее, но не верим в него настолько, чтобы делать что-то сейчас. Аввакум верил. Никон верил. Посмотрите, куда это их привело.
Для Рубанова Аввакум, охладевшими пальцами царапающий угольком по драной бересте, стал призраком, который продолжает шептать нам сквозь века — о том, как одинокий голос может перерасти в эхо, как частная ярость превращается в историческую силу. Текст Аввакума — это не просто памфлет, а карта сопротивления, показывающая, что даже в самых мрачных подземельях власти всегда есть трещины, куда просачивается свет. И в современных событиях в разных странах Рубанов велит видеть ту же древнюю драму: как люди, лишенные власти, создают свою собственную — из слов, из памяти, из упрямой веры в то, что правда — это не факт, а процесс, не данность, а борьба, не то, что было, а то, что еще может быть.
В конце концов, размышления об Аввакуме переходят у Рубанова в размышления о его деде Константине. Если Аввакум создавал альтернативный канон церковности через радикальное отвержение реформ, то советский учитель конструировал альтернативу официальному историческому нарративу через микростратегии просвещения — библиотеку, летние каникулы как время интеллектуальной автономии, передачу книг внукам как ритуал культурной преемственности. Его история обнажает парадокс: самые устойчивые цивилизации (как та «несовершенная русская», о которой пишет Рубанов) держатся не на идеологиях или экономиках, а на этих хрупких, почти невидимых цепочках педагогических перформансов. Когда учитель в захолустной школе открывает ребенку мир через книгу — он совершает тот же революционный акт, что и Аввакум с его угольным как будто выгоревшим письмом: оба изобретают язык заново, создавая возможность будущего там, где система видит только бесперспективное настоящее.
4
Сравнивая эти две книги, нельзя не заметить их общую одержимость фигурой «неудавшегося посредника»: Никон у Рубанова и Пьер Безухов у Курицына. Оба персонажа терпят крах в своей попытке примирить противоречия, но именно их провал становится условием текстуальной продуктивности. Курицынский Пьер — это аллегория самого комментатора, вечно колеблющегося между разными интерпретациями, тогда как рубановский Никон воплощает трагедию реформатора, чей язык неизбежно искажает реформируемую традицию. В обоих случаях «посредник» оказывается заложником языка, который должен был служить ему инструментом.
Оба текста — при всей их изощренности — невольно воспроизводят ту самую «метафизику присутствия», которую пытаются развенчать. Курицын, отрицая возможность «главной» интерпретации Толстого, все же невольно настаивает на «главности» своего комментария. Рубанов, разоблачая различные мифологизации Аввакума, создает новую мифологию — искренний мужской патриотический текст как «ледяную тетрадь», сохраняющую голос мученика. Эта апория подтверждает тезис Поля де Мана: любая деконструкция исторического нарратива обречена стать его продолжением — «аллегорией чтения», которая лишь откладывает, но не отменяет момент герменевтической неудачи.