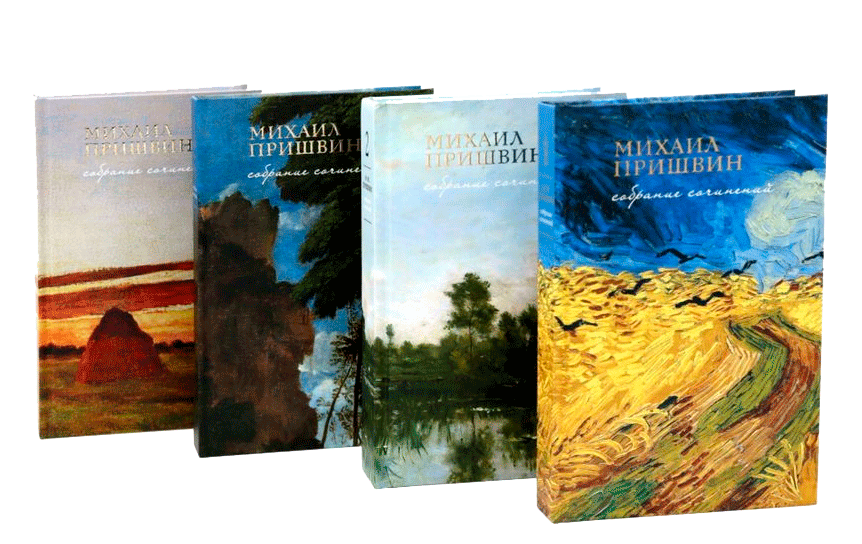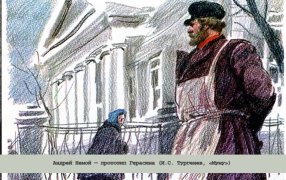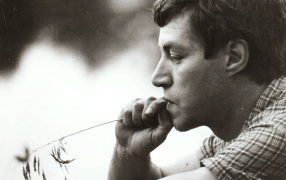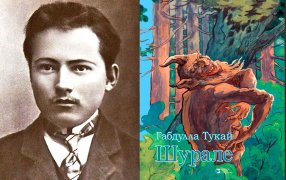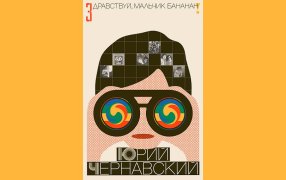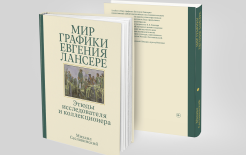Текст: Михаил Зильев
В самостоятельном импринте Издательского дома БММ «Волки на парашютах» выходит богато украшенное четырехтомное собрание сочинений Пришвина. В нем представлена его избранная проза. Это цикл очерков о Русском Севере «В краю непуганых птиц»; лирико-философская эпопея «Кащеева цепь»; особый пантеистический «фенологический календарь» «Календарь природы» и, конечно, хрестоматийная «Кладовая солнца».
Мы обратились к издательству с вопросом: чем "краевед" Пришвин, умерший 70 лет назад, по их мнению, интересен современному читателю? И чем интересно нынешнее издание?
Полученный от издателя и составителя ответ гласил:
Текст: Василий Нацентов, Денис Веселов
Михаил Михайлович Пришвин – пожалуй, один из самых неизвестных известных советских писателей. Знают его в основном в пределах школьной программы и часто, когда речь заходит о Пришвине, открещиваются: а, это тот, что про птичек. Но Пришвин не только и не столько «про птичек».
С одной стороны, вроде бы вполне правоверный советский писатель, сумевший сохраниться и сохранить себя в страшные сталинские годы, с другой стороны – эскапист, описывающий иву и излучину реки в то самое время, когда страна и мир буквально кипят в событиях века. Но есть и третья сторона – дневник, главная его Книга, интерес к религии, человеческим (это слово хочется подчеркнуть) тайнам Русского Севера… Кстати, Пришвин как художник, и как ученый-краевед входит в первый ряд таких замечательных певцов Русского Севера, как Борис Шергин, Юрий Казаков и Семен Писахов. Кто об этом помнит сегодня, кроме филологов и литературоведов? Как и о том, что именно Пришвин, что удивительно для советской литературы, продолжил жанр поэзии в прозе. Возможно, как единственное пространство, в котором, как и в пространствах художественного перевода, можно было укрыться в те сложные для литературного творчества времена. Скажем, доживший доныне классик Саша Соколов или чудный современный писатель Денис Осокин – их истоки и в пришвинском роднике русского слова в том числе.
В наш четырехтомник входят как знакомые широкому читателю произведения – «В краю непуганых птиц», «Кащеева цепь», «Кладовая солнца», так и менее известные, но знаковые вещи – «Журавлиная родина», «Неодетая весна», «Календарь природы», в котором писатель создает свой особый фенологический календарь (это уникальная книга не только русской, но и мировой литературы).
Предисловие для издания написал Илья Кочергин, который вплотную занимается сейчас, как это принято говорить, жизнью и творчеством писателя, так что несколько страниц, предваряющих первый том собрания сочинений – исключительная возможность увидеть абрис его будущей книги о Пришвине. В качестве послесловия мы взяли очерк о Пришвине К.Г. Паустовского, тем самым как бы передавая эстафету следующему комплекту в серии «Вечная классика» – трехтомнику Константина Георгиевича, который уже готовится к выходу.
Илья Кочергин
Честный собеседник
Мне не удалось встретиться с книжками Михаила Пришвина в детстве, а потом, наверное, несколько назло школьной программе, и желания не возникало. Пришвин представлялся мне скучным автором, писавшим о природе. Как могло возникнуть такое представление – из его цитат в упражнениях по русскому языку или из учебника литературы? Не знаю, но точно скажу, что не одному мне так представлялось.
Уже разменяв шестой десяток лет, я писал книжку для детей о заповедниках и национальных парках и рассказал в ней историю о том, как организатор Лапландского заповедника Герман Крепс связал свою судьбу с Севером, прочитав в юности книжку Пришвина «В краю непуганых птиц». Я считал, что это отличная история, демонстрирующая, как книги помогают выбрать дело и любовь всей жизни, и в то же время эта история связана с охраной природы. Вот петербургский гимназист из семьи солидного медика завороженно проглатывает страницу за страницей, а вот он завещает похоронить себя на ставшем родным для него Кольском полуострове, в Лапландском заповеднике.
А потом мне стало стыдно, что я рассказал детям эту историю, а сам не знаю, о чём говорится в этой судьбоносной для Крепса книге. И я её прочитал. Теперь понимаю, почему она могла оказать такое влияние на восторженного юношу. Она меня захватила не меньше. Затем я проглотил все очерки Пришвина, связанные с его путешествиями по стране, потом «Кащееву цепь», потом взялся за Дневники.
Так Пришвин влюбил Германа Крепса в Север, а Крепс влюбил меня в Пришвина.
Попробую теперь рассказать, чего я лишал себя долгие годы, вернее, что обрёл, открыв для себя этого автора.
Я обрёл собеседника, с которым можно обсудить множество важных и интересных вещей. От любимых ландшафтов и воспоминаний до трудностей в поисках своего дома. Озеро Имандра и Обонежье, звенигородские пейзажи и ночёвка в юрте кочевников, сладость лесного уединения и азарт охоты, метели на распаханных среднерусских чернозёмах и будни столичной писательской публики.
Я обрёл честного собеседника, который никогда не старался примкнуть к большой группе, а полагался скорее на какой-то внутренний компас. Пять войн (в одной из которых он участвовал в качестве военного корреспондента), три революции, юношеское увлечение марксизмом и год тюрьмы за участие в подпольном кружке, учёба в Германии, путешествия и скитания по России, голод, мучительный поиск своего дома, Пришвину пришлось даже самостоятельно пахать землю на своём хуторе, пока его не отобрали большевики. «Всем перемучиться, все узнать и встретиться с Богом», – запишет он в своём Дневнике, который вёл в течение полувека.
«Боже мой! как нелегко жилось, как удалось уцелеть! И я хочу все-таки в автобиографии представить жизнь эту как счастливую. И сделаю это, потому что касался в творчестве природы и знал, что жизнь есть счастье… Пусть страданья, а я буду вестником радости».
С таким собеседником можно обсудить, как доверять своему внутреннему компасу и не свалиться в мизантропию. Как выстраивать отношения с властью и не потерять самоуважение. Как сохранить умение очаровываться нечеловеческим и избежать соблазнов бесчеловечного.
Умение критически мыслить и отстаивать независимость и личную свободу при любых социальных потрясениях и при любой власти необходимо, наверное, каждому – особенно учитывая, что, несмотря на все уроки ХХ века, общество оказывается не застраховано от массовых психозов.
Его Дневник удивительно противоречив, оттуда можно натаскать цитат для подтверждения любой своей идеи словами классика. Это не набор мудрых высказываний, это сомнения и часто даже отчаяние тонко чувствующего и внимательно изучающего себя человека. Огромное литературное произведение, писавшееся без оглядки на капризы и вкусы публики, на государственную или внутреннюю цензуру. Это наблюдения и мысли человека, который, по своему собственному признанию, умеет размышлять только на бумаге.
Я получил собеседника, имеющего огромный опыт чуткого и творческого освоения земли и выстраивания отношений с природой. Думаю, это важное умение для жителя нашей огромной страны, бесконечные просторы которой явно оказывают на нас сильное влияние. Мы как подростки, не освоившиеся со своим внезапно вымахавшим телом, – не умеем чувствовать эти пространства и пользоваться ими, не присвоили полностью. И как подростки же мы часто глухи к богатству сигналов окружающего мира, завороженные «быстрым сахаром» социальных преобразований, общественных идей и мифов. Отношения с себе подобными беспокоят нас больше, чем отношения с ландшафтами или нечеловеческими соседями по планете.
«Так ясно и почему мы мучимся над разрешением мировой задачи и не можем ее разрешить: просто мы не живем полной жизнью…» – писал Пришвин. А какая жизнь будет более полной? Ответ, кажется, прекрасно описан американским единомышленником Пришвина – Генри Торо:
«Каждая сосновая игла наливалась симпатией и предлагала мне свою дружбу. Я так явственно ощутил нечто родственное даже в тех аспектах природы, которые принято называть мрачными и дикими, так ясно понял, что ближайшим кровным моим родичем не обязательно должен быть человек и сосед, что отныне не буду чувствовать себя чужим ни в какой глуши».
Историк культуры Томас Берри писал о некотором «аутизме человечества по отношению к миру природы», но всё же это, наверное, не «аутизм», а недостаточная взрослость. И в трудном деле взросления и обретения экологической идентичности, в деле нового взгляда на человека книги Пришвина кажутся мне прекрасным подспорьем.
Возможно, с лёгкой руки «декадентской мадонны» Зинаиды Гиппиус, повесившей на Пришвина ярлычок «без-человечного» писателя, мы отводим его книгам место на прилавках нашего внутреннего гипермаркета где-то в скучноватых разделах «О природе». Однако как же полезно сегодня, в тот момент, когда мы всё сильнее ощущаем нарастающие экологические проблемы, посмотреть на мир глазами писателя, концепцией которого является «родственное внимание» ко всему, что нас окружает – к людям, ландшафтам, животным и птицам, растениям, земле или даже смене времён года.
«Земля вся напряженно ждет нашего внимания, стоит чуть-чуть принудить себя, всмотреться, и сейчас же увидишь гриб или ягоду, или след какой-нибудь птицы, зверушки».
И даже если взять и отдельно рассмотреть одни пришвинские пейзажные зарисовки или фенологические наблюдения, то всё равно это получится очень важный текст о человеке. Современный искусствовед Надя Плунгян, специалист по живописи советского периода, утверждает, что пейзаж является «одним из самых остросоциальных жанров искусства» и изображение природы в искусстве не может быть нейтральным. Об этом прямо писал и сам Михаил Михайлович: «Но я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же только о людях и думаю».
Пришвин был представителем последнего поколения литераторов, писавших «усадебный текст» русской литературы. Россия в его представлении была огромной усадьбой, которая, будучи правильно управляема и организована, может принести всем населяющим её огромные богатства, может сделать жизнь более полной.
Хороший хозяин усадьбы должен быть постоянно и тесно связан не только с людьми, населяющими его поместье, но и с землёй, животными, растениями, чутко реагировать на малейшие изменения в погоде, но также и следить за процессами, происходящими в науке и культуре. Усадебное мировоззрение, сменившееся после «беспочвенного» Серебряного века дачным мировоззрением, лучше позволяло ощутить «живой личный космос», почувствовать родственную связь с почвой, животными и растениями. Прекрасный тому пример – химик и помещик Александр Николаевич Энгельгардт, чьи «Письма из деревни» рисуют картину рачительного управления усадьбой. А обрыв, отказ от связей с большим миром, отчуждение от богатства связей с природой, от «близкой реальности» (используя формулировку Пришвина), чревато депрессией, модной сегодня болезнью.
Герои Пришвина часто могут показаться несколько маргинальными в современном понятии этого слова – прапорщик, ушедший с поля боя, из бесчеловечности войны и открывший для себя (с помощью старика-охотника Лувена) корень жизни в повести «Жень-Шень». Мелиоратор Алпатов, отказавшийся осушать болото ради водоросли Клавдофоры в «Журавлиной родине». Да и сама фигура писателя – чудака в круглых очках, с ружьём, собакой и записной книжкой, бродившего в одиночестве по лесам, мало участвовавшего в литературной, как сказали бы сейчас, тусовке, иногда просто бегущего от людей, не рождает, наверное, обывательского интереса к его книгам. Это не борец с системой и не её жертва, не лидер новой литературной школы, не трибун, не политик. Это честный исследователь человека, чьи выводы не всегда льстят нам. Про самого себя Михаил Михайлович писал в Дневнике: «Я – частица мирового космоса... Эту частицу, которая слита со всеми другими существами, я изучаю». И, мне кажется, если мы сами хотим побольше узнать о себе, то открытие для себя этого автора будет большим подспорьем в наших поисках настоящих нас.
Книги некоторых авторов дают нам ощущение нового знания, сюжеты других дарят заряд эмоциональных переживаний, третьи дарят эстетическое удовольствие. Знакомство с Пришвиным я бы сравнил с обретением потрясающей по точности оптики, с помощью которой он всю свою жизнь искал источники личной свободы и всеобщей радости. И эти поиски чаще приводили его в лес, чем в город. «И тогда весной, когда высоко поднимутся травы, украшенные изображением солнца, мы встретим мир природы новым и прекрасным и, как первые люди в раю, будем давать любимым животным, растениям, камням свои имена».
Не сомневаюсь, что в пришвинских книгах нас ждёт много открытий именно о человеке – добрых и не очень, но всё-таки добрых гораздо больше. Здесь, наверное, уместно привести слова Горького из письма Пришвину: «По вашим книгам, М. М., очень хорошо видишь, – писал Горький, – что вы человеку – друг. Не о всех художниках можно сказать это так легко и без оговорок, как говоришь о вас… Любоваться человеком, думать о нем я учился у многих, и мне кажется, что знакомство с вами, художником, тоже научило меня думать о человеке – не умею сказать, как именно, но – лучше, чем я думал…»
Так что добро пожаловать в «пришвинский зеленый мир, полный света и ветра».