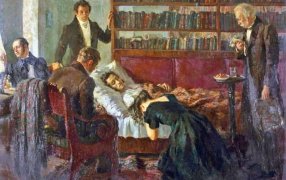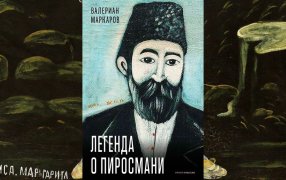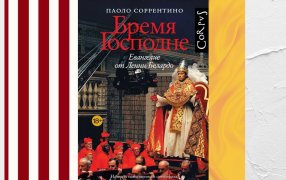Текст: ГодЛитературы.РФ
В первой половине учебного года ФИПИ активно проводит вебинары и открытые встречи с руководителями комиссий по разработке КИМов для ЕГЭ: обсуждаются результаты ранее проведенных экзаменов, выстраиваются предположения о том, что надо или не надо менять в материалах для предстоящего экзаменационного периода.
Напомним, что уже выложены проекты демо-версий ЕГЭ-2026. Мы писали о русском языке и о литературе. Также уже опубликован проект расписания сдачи экзаменов в следующем году: экзаменационный период теперь будет начинаться с 1 июня, чтобы у выпускников была возможность спокойно отгулять последний звонок.
Теперь начался период всевозможных онлайн-конференций, вебинаров и встреч. Так, прошел вебинар «О результатах ЕГЭ 2025 года и содержании КИМ для ГИА 2026 года по литературе», на котором выступал Сергей Александрович Зинин, руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по литературе.
Наши друзья и коллеги из онлайн-школы «Литература100» проделали большую работу — законспектировали выступление, сформулировали тезисы по нему и — самое главное — поделились с нами! Итак:
1. Средний балл ЕГЭ 2025 по литературе – 61,2, что сопоставимо с 2024 г.
2. Труднее всего участникам экзамена выполнять тестовые задания 2 и 8.
3. Из заданий с развёрнутым ответом вызывают затруднения задания на сопоставление – 5 и 10. Участникам не хватает сопоставительно аналитических навыков.
4. Повысились оценки по критериям грамотности в 11 сочинении, потому что сами критерии были смягчены.
5. Самые низкие баллы в 11 задании по К3 (термины) и К5 (речь).
6. Знание текстов – «наша ахиллесова пята». Выпускники плохо запоминают содержание произведений, а это «краеугольный камень» всего экзамена.
7. В связи с п.6 нужно стремиться к «накопительному результату обучения».
8. Необходимо качественное литературное образование, начиная «с младых ногтей». Основная школа (7–9 классы) уже является «полем для подготовки к будущему экзамену».
9. Нам не нужен «мозговой штурм» в 11 классе – нужно, чтобы знания усваивались поэтапно и своевременно, а потом лишь закреплялись. «В этом пафос моего сегодняшнего выступления».
10. В тестовом задании № 2 могут встретиться не только основные произведения для заданий 1–4, но и тексты из списка ОШ (например, «Евгений Онегин» – как в демоверсии).
11. С понятием «жанр» мы работаем уже в 3 классе начальной школы. Значит, и начальное звено «выстраивает пирамиду» подготовки к ГИА.
12. Выполняя задание 4 ЕГЭ, нужно сосредоточиться на анализе приведённого фрагмента, стараясь «не выходить далеко за его пределы».
13. В задании 5 можно выходить за рамки фрагмента, если это разрешено формулировкой вопроса.
14. Вся терминология для ЕГЭ отражена в федеральных рабочих программах, начиная с 1 класса начальной школы. Если это «правильно заложено», то работает на протяжении изучения всего курса литературы.
15. Несмотря на п. 14, выпускники «выдумывают» собственные термины: например, «крестовая рифмовка», «параллельная рифмовка». То есть «возникают сикамбры».
16. По работам прошлого года видно, что любое незнакомое слово выпускники причисляют к архаизмам. Не хватает лексического запаса и языкового чутья.
17. Обучать литературе надо основательно с 1 класса, не пропуская никаких нюансов программы. В этом смысл «моего пафосного выступления».
18. И когда в 11 классе предэкзаменационная тревога будет «высоким пламенем пылать», мы уже будем готовы, чтобы просто сказать: ну-ка вспомни, что такое неологизм, попробуй найди его в стихотворении.
19. Нужно знать все термины из списка в кодификаторе. «Лишних» терминов на ЕГЭ не будет.
20. В 10 задании допустимо сопоставление только со стихотворением (не с романом, повестью или поэмой).
21. С 6 класса понятие «лирический герой» должно присутствовать в обучении «перманентно». Синонимы тоже можно использовать.
22. В 10 задании сопоставлять только по указанному аспекту.
23. Особенно рельефно в сопоставительном задании выступает отсутствие логики.
24. Вечная проблема заданий 5 и 10 – «рядоположенность» вместо сопоставления: вместо сравнения текстов на основе определенной позиции пишется об одном произведении (всё, что можно о нём сказать), а следом – о втором. Хорошо, если ещё в конце делается попытка их связать. И это бывает не всегда.
25. Вторая проблема – «дисбаланс»: один текст разбираем подробно, второй – только упоминаем.
26. Сочинение в задании 11 – «основная несущая конструкция экзамена».
27. Выпускники любят писать большое сочинение по XIX веку больше, чем по XX. Так было всегда со времен советской школы.
28. Выбирают темы так: 11.1 (26%), 11.2 (25%), 11.3 (8%), 11.4 (33%), 11.5 (4%). А ещё 4% вообще не приступают к этому заданию.
29. Перед выполнением всех заданий нужно читать преамбулы (плашки в КИМ) – там пошагово разъяснено всё, что нужно сделать.
30. Между «хорошо» и «отлично» подготовленными экзаменуемыми должна быть ощутимая разница. Экзамен должен её выявлять. «Просто хорошо подготовленные» не могут получать тот же балл, что отличники.
31. Объективность и единство подхода к оцениванию нужно, чтобы никому не было обидно получать свои результаты.
32. На сайте ФИПИ вывешен проект. Идёт обсуждение, материалы будут дорабатываться. Есть предложения, которые мы «взвешиваем».
33. Требования к заданиям конкретизированы. Отказываемся от непродуктивных, непрозрачных формулировок в критериях (глубоко/неглубоко, например). Нужна чёткая техника оценивания – «технологичные критерии».
34. Три тезиса – три балла. Но это не значит, что выпускники будут «подгонять» ответ под критерии. Они будут писать так, как писали раньше, а требования будут просто «учитывать».
35. Дифференцирующая способность экзамена повысится благодаря новым установкам.

Татьяна Шипилова, преподаватель литературы:
Итоги экзамена ЕГЭ-2025 вполне закономерны, а вот некоторые утверждения и выводы господина Зинина снова наталкивают на мысль о том, как же далеки наши светила педагогики с профессорскими званиями от того, что реально происходит в школе.
1. Средний балл в 2025 г. сопоставим со средним баллом в 2024-м. То есть никакого роста или спада не произошло, что, кстати, радует, потому что некоторые задания прошедшего года были реально сложными. Помнится, в ФИПИ очень сильно переживали, что средний балл растет. Они это связывали с излишней подготовленностью выпускников к экзамену. Что ж. Теперь, как видим, можно немного успокоиться.
2. Ученикам действительно сложнее всего в «тестовых» заданиях даются 2 и 8, которые являются реально тестовыми. Но связано зачастую это даже не с тем, что сдающие чего-то не знают, а с тем, что сами вопросы иногда составлены действительно некорректно. Чего стоит только вопрос 2025 года в резервном варианте ЕГЭ по литературе, который сами составители признали ошибочным и все ответы зачли как правильные. В 8 задании проблема еще серьезней: эксперты и преподаватели в последнее время все чаще сталкиваются с проблемой четкого определения тропов: что есть неологизм (все мы помним семантический неологизм в строке «Ты со мной приключился» в стихотворении Ахмадулиной, который предполагалось обнаружить школьникам в 2022 году на ЕГЭ, хотя такого понятия, естественно, в кодификаторе нет, да и не изучается такое в школе, это очевидно программа 3-го курса вуза внутри дисциплины «Неология современного русского языка»), чем конкретно метафора отличается от литоты и проч. Если уж профессионалы путаются, то что делать детям?
3. Сложности в 5 и 10 задании связываются с отсутствием у сдающих сопоставительно-аналитических навыков. Отчасти с этим согласиться можно, но, увы, почему-то Сергей Александрович запамятовал, что еще год назад во время онлайн-конференции он обещал, что в задании 5 составители не будут «размениваться по мелочам» (его цитата, не моя) и использовать для сопоставления внесценических и прочих откровенно третьестепенных персонажей. Что же мы получили на реальном экзамене? А получили мы сравнение поведения Андрея Болконского при разговоре с Аракчеевым и поведения Максима Петровича в ситуации с императрицей. Кто помнит, кто такой Максим Петрович и что там у него произошло с императрицей, тот, безусловно, молодец, но герой этот в комедии Грибоедова внесценический, которых нам обещали не использовать. И вот кому верить?
А еще Сергей Александрович почему-то не учитывает, что некоторые 5 задания несопоставимы по сложности даже друг с другом, о чем вопиет даже новый сборник тренировочных вариантов: одно дело сравнивать Пьера Безухова и Илью Обломова, НО совсем другое — Беликова и учителя из сна Пьера о глобусе. Такое сравнение не придет в голову даже профессиональным литературоведам, так почему же подобное требуется от школьников?
6–9, 11, 14, 17, 18. Ну тут очень хочется посоветовать Сергею Александровичу поработать в современной школе хотя бы лет 5, пообщаться с современными детьми, посмотреть, а как вообще изучают литературу в школе, на что хватает времени, а на что его категорически не хватает. Думаю, это будет ну очень познавательно для того, чтобы не высказывать откровенно утопические планы. Но все же выскажусь отчетливее: литература в школе, как это ни прискорбно, предмет второстепенный. Для сдачи экзамена его выбирает минимальное число учеников (максимум 1–2 человека из класса), школьные учителя не успевают к нему готовить, часто сами уроки заменяются на русский язык, потому что эти две дисциплины, как правило, ведет один и тот же человек, а вот русский сдают все. Так что если уж подходить к решению проблемы комплексно, то и заявка должна быть масштабней: разнести русский язык и литературу в разные углы, давать вести эти предметы разным учителям — тогда, возможно, будет толк. А пока это всего лишь очередная демагогия.
27–28. Зинин отмечает и на словах, и на цифрах, что выпускники чаще всего пишут большое 11 сочинение по текстам XIX в., и, мол, так было еще с советских времен, только вот забывает уточнить, что как раз в советское время это было вполне логично, т.к. половина тех текстов XX в., которые сейчас входят в школьную программу, в советское время либо были еще не написаны, либо были запрещены (Ахматова, Булгаков, Солженицын). Сейчас же ситуация несколько иная: тексты есть, но до них часто просто не доходят руки. Дай бог если успеют более-менее разобрать «Тихий Дон» и «Мастера и Маргариту». Солженицын и Фадеев, конечно, грустно топчатся в сторонке, но, увы, больше времени, чтобы их изучить, все равно пока никто не выделил. Да и почему-то Пушкин, Толстой и Достоевский все же оказываются более понятными, чем Шолохов, Маяковский и Солженицын, что бы кто ни говорил про неспособность школьников прочитать, оценить и полюбить классическую литературу.
30. «"Просто хорошо подготовленные" не могут получать тот же балл, что отличники»: и снова утопический (и странный!) тезис, никаким образом неспособный воплотиться в жизнь. Эксперт получает бланк с номером, не зная, чью работу он проверяет. Каким образом можно понять, отличник это или «просто хорошо подготовленный» ученик? В 2025 году моя ученица, которая в школе перебивалась с 3 на 4, сдала ЕГЭ по литературе на 94 балла: ошиблась в одном задании — спутала дактиль с анапестом. Другая же девочка, которая в итоге подтвердила серебряную медаль, сдала именно ЕГЭ по литературе на 61 балл: переволновалась, намудрила с речевыми ошибками, запуталась с терминами. Как можно в таком случае почувствовать ощутимую разницу между учениками? Да и какое имеет право эксперт оценивать по тому, как сдающий учился в школе? Оценивается экзамен и подготовка к нему, а не аттестат.
34. Подразумевается, что теперь в 11 сочинении обязательно нужны 3 тезиса. Преподавательский состав возмутился, потому что некоторые темы даже своей формулировкой предполагают всего 2 тезиса, но теперь этого будет недостаточно для максимальной оценки. На утверждение же Зинина о том, что выпускники не будут «подгонять» ответ под критерии, хочется только ответить следующее: ха-ха-ха! Будут.