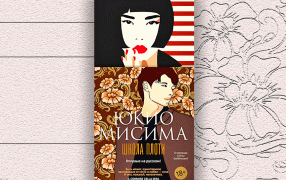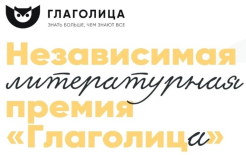Текст и фото: газета «Вперед» (На фото: г. Мариинск, Томской губ. Базарная площадь)
Текст предоставлен в рамках информационного партнерства «Российской газеты» с газетой «Вперед» (г. Мариинск, Кемеровская область)
Знакома ли вам книга Николая Наумова «Паутина»? Думаем, далеко не всем… А между тем этот замечательный сборник очерков наглядно передает жизнь в сибирской глубинке - в Томске и Мариинске - во время золотой лихорадки в конце позапрошлого столетия.Недавно газета «Вперед» стала публиковать отрывки из «Паутины», и «Год Литературы» уверен, что застывший в тексте Наумова быт полуторавековой давности будет интересен не только мариинцам.
Паутина
Рассказ из жизни приискового люда в Сибири (Сцены)
Общий вид села напоминал своею формою подкову, упиравшуюся обоими концами в обрывистый берег реки, по имени которой называлось и самоё село. По середине села стояла высокая каменная церковь, и купол её, обшитый белой жестью, ярко горел теперь от солнечных лучей. Спустившись с холма, мы въехали в широкую прямую улицу, обнесённую по обеим сторонам низенькими, иногда покосившимися и вросшими в землю избушками, среди которых то по одну, то по другую сторону улицы неожиданно вырастал перед глазами высокий одноэтажный или в два этажа дом, с балконами, покосившимися на затейливо выточенных колоннах, с резными, ярко раскрашенными ставнями и плотными деревянными заборами. Странный контраст представляли подобные дома, высившиеся среди соседей своих, изнурённых летами и непогодами. Они походили как будто на новые, яркие заплаты, нашитые на ветхом рубище нищего, и своею вычурной красотой сильнее оттеняли убогий и невзрачный вид лепившихся возле них лачуг.
Ямщик остановил лошадей перед одним из таких выдающихся наружностью домов, и едва я слез с телеги, как плотные резные ворота раскрылись настежь и меня встретил крестьянин лет пятидесяти на вид, в тиковом халате, накинутом поверх чистой ситцевой рубахи. Седые, несколько вившиеся волосы на голове его были подстрижены в скобку и отчасти закрывали высокий лоб, изрезанный морщинами; маленькие карие глазки, светившиеся из морщинистых орбит, пристально остановились на мне.
- Добро пожаловать, милости просим! - произнёс он, кланяясь. - А мы, признаться, давно уж поджидаем вашу милость! - говорил он, ведя меня по лестнице, устланной чистым холщовым половиком, в верхний этаж своего нового, красиво и удобно расположенного дома.
Введя меня в обширную комнату, оклеенную пёстрыми обоями, с окрашенными под шахмат полами, Кузьма Терентьевич вышел, чтоб присмотреть за моими вещами.
Комната была уставлена массивными креслами с мягкими подушками, обтянутыми светлым с бирюзовыми полосами ситцем. У передней стены между окнами стоял большой мягкий диван; около дивана круглый стол, накрытый белою скатертью, и на столе красовался массивный бронзовый подсвечник с тремя стеариновыми свечами.
В простенке висело большое зеркало в резной орехового дерева раме. По стенам были развешаны в деревянных рамах гравированные портреты членов царской фамилии и портрет Ермака, писанный масляными красками. Завоеватель Сибири был изображён в рыцарском шлеме с огромным страусовым пером красного цвета, в кольчуге и с копьём в руке. Кисейные занавески на окнах, прикреплённые вместо розеток розовыми ленточками, дополняли убранство комнаты. Большая стеклянная дверь в углу вела на балкон, с которого открывался прелестный вид на окрестности села.
- Пожалуйте-ка, ваша милость, выкушайте, с дорожки-то оно способно! - раздался сзади меня голос Кузьмы Терентьевича, поднёсшего мне на небольшом корковом подносе рюмку с виноградным вином. - Обычай у нас такой, штоб с дороги обогреть человека, - отвечал он на мой отказ, - входя в дом, от хлеба-соли грешно отказываться!
Нам подали чай. Усадив меня на диван к круглому столу, Кузьма Терентьич сел около порога и, закинув полы своего халата, ещё раз пристально оглядел меня. Не говоря об убранстве в доме, которое резко бросалось в глаза своею щеголеватостью, хотя отчасти и безвкусной, об обширном дворе, обнесённом громадными пристройками, каждая мелочь, на которую падал взгляд, доказывала не только крупную зажиточность Кузьмы Терентьича, но даже знакомство его с некоторым комфортом. Варенье к чаю подано в хрустальных вазах, которые бы сделали честь любому купеческому дому.
Чайные ложки, щипчики для сахара, вилочки для лимона были из чистого серебра; даже поданы были салфетки под стаканы и сухари и печенья московского изделия, достигающие в Сибирь через ирбитскую ярмарку, - всё это как-то странно было встретить в доме крестьянина, в селе, заброшенном в такую глушь. Заметив, что я обратил на окружающую меня обстановку внимание, Кузьма Терентьич улыбнулся и окинул меня самодовольным взглядом, как бы говоря: «А что, брат, не ожидал, небось, этого встретить, так вот знай же теперь, каковы мы!»
- Пондравилось ли вашей милости село-то наше? - улыбаясь, спросил он, наливая чай на блюдце. - Многие его очень одобряют, особливо когда впервой заедут к нам.
- Красивая местность! – ответил я. - И самоё село по большинству своих зданий скорее походит на город. В первом ещё селе я встретил такое обилие лавок, только где же вы находите покупателей на свои товары? - спросил я.
- Не мы, сударь, покупателей ищем, а покупатель нас.
В глухое время-то пожаловали вы к нам. По осени бы вам заехать сюда, любопытней бы для вас было.
- А осенью разве что-нибудь особенное происходит у вас?
- Много особенностей, мноо-ого-с! - повторил он. К таёжникам бы пригляделись на всю ихнюю неосновательность. Безобразный народ! - заключил он, ставя на стол допитое блюдце.
- Чем?
- Как вам рассказать - чем, сразу-то всего не расскажешь. Это надобно, сударь, своим глазом видеть. Теперича, не утаивая правды скажу, про наше село худая слава идёт, чай и вы, поди, слышали? - с иронией посмотрев на меня, спросил он. - По людской-то молве хуже нашего мужика и на свете нет: и грабители-то мы, и народ спаиваем, штоб легче его под пьяную руку обирать, и чего-чего, каких только художеств и качеств не говорят про нас! Как послушать всех речей, так ровно у нас и не село, а разбойный притон.
- Поговаривают, что так... - прервал я.
- Знаем, сударь, што поговаривают, как не знать, - покачав головой и подувши слегка на чай, налитый на блюдце, продолжал он. - А только всё это неправда, сударь, клевета одна да зависть. Кушайте ещё-с, пожалуйте, милости просим, чаёк у меня хороший, - говорил он, принимая от меня допитый стакан. - Ящиками покупаю, торгую им малым делом, в числе прочего. Худым уж вашу милость не попотчуем! Я ведь и на прииски, сударь, в ину пору чаи поставляю, а приискатели - народ тонкий, на эту материю разборчивый.
- Верю, и чай у вас, действи- тельно, прекрасный, только я не хочу более...
- Жаль, што мало кушаете, а мы так, признаться, с утра и до ночи около самоварчика-то охолаживаемся, очень к чаю-то навыкли. Может, закусить не прикажете ли чего, у нас и балычок астраханский есть, и икра, и сардиночки, и вина, каких только пожелаете...
- Домовито вы живёте, Кузьма Терентьич! - заметил я.
- Нельзя иначе, сударь. Коли с хорошими людьми компанию водить, так и про запас держи всё хорошее. У меня ведь, сударь, все золотоприискатели остановку имеют, народ - тысячники, худого им не подашь, коли спросят чего. А мы теперича, хоша и в крестьянском звании состоим, а тоже анбицию свою соблюдаем! - заключил он, многозначительно взглянув на меня.
- Вы здешний уроженец?
- Природные здешние! И батюшка покойник, и дедушка не выезжали никуда из здешних местов. Ведь наше, сударь, село и жить-то пошло с тех пор, как золото в тайге открыли, а допрежь того на этом месте посёлок стоял, в котором было ли и шесть дворов; ну, а когда золото открыли, то потребовалось для приисков и то, и другое, и третье; золота в те поры добывали много, деньги-то были дёшевы, так сказать, нипочём, приискатели-то зря их метали за всякую маломальскую послугу, ну народ-то и повалил сюда ради наживы, да из шести-то дворов теперь выросло без малости триста.
А наш-то род - издавние здешние старожилы. Тятенька, покойник, и церковь-то самолично заложил, и своим коштом воздвиг оную. Две серебряные медали покойник носил - одну малую, другую большую на шее, а всё-таки остался, сударь, в крестьянском чине и мне благословения не дал из сермяги вылезать!
- Отчего же, по любви к своему сословию или по другим причинам?
- Покойник так говаривал, сударь: с твоим-де капиталом да властью по крестьянству ты всегда будешь первым человеком, и чего бы ты ни сделал, всё тебе с рук сойдёт, потому ты мужик, а с мужика какой взыск! А коли в купцы, говорит, выйдешь, то в ранговые-то не попадёшь, а на задворках путаться и сам не захочешь.
- В какие же это ранговые? - полюбопытствовал я.
- По-вашему-то, сударь, сказать - первостатейные...
- Но вы всё-таки торгуете же?..
- По купеческому свидетельству, и в то же время все крестьянские тяготы несём, наравне с иными прочими. Торговля наша, сударь, не то штобы обыденное занятие, а ближай всего на ярманку смахивает. Раз в году, не более месяца, мы эфтим делом занимаемся, когда, значит, по осени приисковые рабочие из тайги выходят, а в остальное время мы и лавок не растворяем, разве только за товаром приглядеть да лавку проветрить понадобится. Да и товары-то у нас, сударь, не ахтительные, по скусу рабочих закупаем их: готовые ситцевые рубахи, шаровары плисовые, шляпы поярковые, сапоги, бродни, полушубки, ну, опояски што поузорней, зипуны, а таких, штобы дорогих, нет. У меня, окромя этих товаров, бакалейные ещё имеются, пряники, орехи разные, конфеты, варенья, што касается, значит, до лакомств; ну, вина разные, и закуски. А главная теперича статья - это постоялые дворы, харчи и прочее содержание рабочих. Ведь мимо нашего села-то, сударь, не одна тыща этого народа проходит: ведь если бы теперича не мы, ваша милость, оберегали рабочих, так тут бы один Господь ведал, что бы делалось на свете...
- Вы оберегаете рабочих, - чем же это и от чего?
- Мы-с!.. Истинно говорю вам, што благодетельствуем им; если бы только не мы, о-о господи, и слова-то не найдёшь сказать, чего бы только не творилось меж ними! - произнёс он, махнув рукой и пытливо исподлобья посмотрев на меня, как бы желая уловить, какое впечатление производят на меня его слова.
- Грабежу бы этого, убийства сколько было, продолжал он, - да так скажу вам, сударь, што и третья бы часть их не возвращалась домой, все бы перерезали друг друга, ей-богу-с!.. Теперь вот в народе зовут нас плутами, грабителями, а всё это зависть одна людским языком ворочает, глядя на нашу избыточную жизнь, а если бы попытали на себе, сколько хлопот нам с этим народом да неприятностей, так не то бы заговорили...
- Какие же такие неприятности и хлопоты? Объясните мне, я всё-таки не понимаю, - спросил я.
- Хлопоты, сударь, такие, што и врагу их не пожелаешь. Ведь на приисках работать идёт всё такой народ, у которого ни Бога, ни совести нету; идут-то всё более варнаки-по-сельщики, што ни самые оголтелые. Денег-то они зарабатывают и выносят оттуда помногу. Придёт он к нам и почнёт ломаться, дорвётся до вина-то, так ведь облик человеческий потеряет, в эфтом-то вине так и норовит друг друга ограбить, а то и на нож посадит. Ну, не остереги его вовремя, так чего бы было?.. Вот и оберегаешь его, Бога памятуя, а чего стоит тебе оберечь-то его от худых-то дел, никто не видит, а што живём-то избыточно, так это вот всем глаза колет!
- Как же оберегаете их?
- А как несмышлёных младенцев няньки остерегают, сударь, так и мы. Пустишь их на постой к себе, да и смотришь за ними в оба, как опекун какой!
- Вот что! Но всё-таки опека-то эта приносит же вам какую-нибудь выгоду?
- Слова нет, не без выгоды! Какая же опека бывает без выгоды, хе, хе! Да ведь выгода-то выгоде разная, сударь.
Рабочий-то приходит к нам голодный, оборванный, на ином такой гардероб болтается, што все родимые пятнышки сквозят: из хозяйских-то запасов на приисках они не очень-то любят заимствоваться, потому там с них за всякую малость вдесятеро берут. Ну, ты и оденешь его, как подобает человеческому званию, напоишь, накормишь, теплом его душу отведёшь, - в энтом, полагаю, сударь, ведь нет греха? - исподлобья, с усмешкой посмотрев на меня, спросил он.
- Конечно, нет, - согласился я.
- А ведь теперича всего этого тоже даром ему не дашь, - продолжал он. - Ведь всё, чего ни даёшь ему, ты и сам покупаешь, ведь рубахи, сапоги и зипуны не растут в лесу, как грибы, да если бы и возрастали даже, так мы судим, што и собрать-то их всё же бы и труд, и время требовалось, хе, хе! Если ты и оденешь его с ног до головы, то всё-таки супротив ихних-то хозяев, приискателев-то, берёшь с него самую божескую плату. Поить и кормить его даром нам тоже не доводится... потому уж очень убыточно бы было... - этак-то хлебосольствовать. Ведь его пустыми щами да кашей, сударь, не ублаготворишь, не-е-т. Мы, говорят, тухлой-то солонины под соусом из червей и на приисках досыта наполоскались, хе-хе! Очень, говорит, довольны эфтим явством, так уж ты, говорят, нам теперича еды-то отменной отворачивай. Первым делом щей со свежей свининой, каши, лапши всякой, и штоб всё это плавало в жиру и масле; вторительно поросёнка, гуся, да-а-а-с, хе, хе! Вот ведь они каковы, приисковые-то работнички! - с иронией заключил Кузьма Терентьич. - А ведь чуть теперича не уважил его, не по скусу его сделал, так ведь он, сударь, и посуду вдребезги об пол махнёт, и еду за окно выбросит, потому, говорит, поколь у меня деньги есть, так ты меня уважай, хе, хе!
- И уважаете?
- Уважаем-с! Даже в полном чувстве.
- А чем же вы выказываете подобное уважение к ним?
- Приноровкой к их скусу и ндраву: потребовал он, к примеру, поросёнка, ну, и жаришь ему поросёнка; он гуся - подаёшь ему и гуся; ешь не ешь, а уж цену, что стоит, плати, и уж насчёт платежу, правду сказать, содержат себя по чести, што ни спроси с него, отдаст без слова.
- Не торгуясь?
- Избави Господи! Завода энтого нет, даже за обиду считают торговаться. Иному, сударь, ради потехи скажешь, особливо если покупает што: «Не дорого ли будет, мол, для тебя, подумай!» Так куда тебе, сейчас в азарт войдёт.
«Што, говорит, разве у меня денег нет, а?..» И какая у него сумма есть, всю налицо представит: знай-де меня! Вот каков народец-то! Платят без слова, чего ни спроси, за копеечную вещь десять рублёв без разговора выложит, только потрафляй ему!
- И подолгу живут они в вашем селе?
- А жительство их, сударь, длится смотря по деньгам: у кого денег побольше, тот и живёт подольше, и все, почесть, проживаются до последней копейки.
- Неужели до последней?
- По порядку-с, как исстари повелось. Покамест он не пропьёт и не проест своего заработка, не уйдёт из села. А уж когда дойдёт до конца, выворотит карманы, тогда надевает на себя дерюгу, в какой пришёл или какую дашь ему из милости, соболезнуя об нём; взденет на плечи кошель, попрощается степенно, по чести, и идёт домой, побираясь христовым именем, а боле всего опять на те же прииски ворочается в хозяйский контрахт.
- Чем же в таком случае вы их благодетельствуете, Кузьма Терентьич, и от чего охраняете? - спросил я. - Я думал, что вы им не даёте заживаться в вашем селе, чтобы они не пьянствовали и не мотали заработанных денег, и тем охраняете и их, и семьи их от нищеты.
- Превратно поняли, сударь! - строго произнёс он. - Неужели вы полагаете, што мы не христиане, што ни души, ни совести в нас нет, штоб мы осмелились воспрещать человеку передохнуть недельку-другую с дороги, а стали бы гнать его домой и после этакой, теперича, каторжной жизни и работы, какую они несут на приисках, не дали бы им полакомить своей утробы! Напрасно вы, сударь, так полагаете об нас, - говорил он, укоризненно качая головой. - Избави Господи! Да неуж мы не люди? Ведь он там робит-то, сударь, передыху не знает: ещё солнышко не взойдёт, а его уж на работу гонят, да с последней зорькой спустят с неё. Тепло ли, холодно ли, здоров ли, немощен ли, его не спросят, знай одно - робь, подчас по колено в воде. От грязи да от всякой нечисти у него ведь кожа-то с тела лупится. Вот сколь сладко ему деньги-то достаются! Кормят-то его там таким добром, што собака рыло отворотит, а ведь он человек, сударь, ему, как и нам, грешным, и отдохнуть хочется, и сладким кусочком побаловаться, и чистую рубашку на обмытое тело вздеть, и хошь денёк-другой пожить всласть, по своей воле, господином своего достатка; так неуж у доброго человека, в ком христианская-то душа есть, повернётся язык сказать ему: а ты вот не пей, сладко не ешь, путной одёжи себе не покупай, а подь от нас со Христом к своему двору. Нет, сударь, так поступать не гожо-о. А на мой ум, пущай он балуется, Господь с ним, ему только и услады-то, может, в жизни, штобы хоть недельку-другую сладко попить и поесть, а если он и пропивает и проедает всё до копеечки, так ведь не чужое, а своё кровное, сударь, и Господь с ним: всякий своему добру хозяин и волен ему распорядок иметь.
Голос Кузьмы Терентьича, когда он произносил эту тираду, дышал таким неподдельным сочувствием к безотрадной жизни приискового рабочего и в то же время таким сознанием высокого христианского подвига, какой совершают жители, предоставляя ему возможность сладко пить и есть у них за свои кровные деньги, что доказывать ему значение этих услуг в их настоящем свете было бы бесполезно.