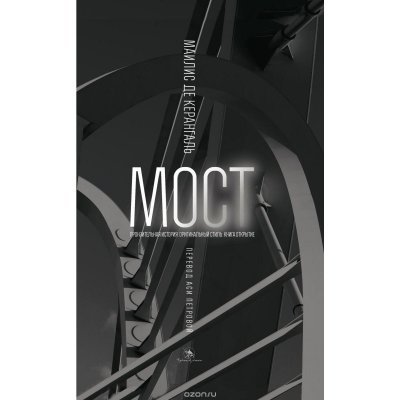Текст: Андрей Мягков
Тот, кто строит мост

Француженка Маилис де Керангаль окончила строительство своего «Моста» в 2010 году - после чего получила премию Медичи, номинировалась на Гонкуровскую и ряд премий поскромнее, а также печаталась, печаталась, печаталась. Трехсоттысячный (тройка и пять ноликов) тираж в родной Франции, переводы более чем на две дюжины языков - цифры очень нескромные. Разумеется, после такого успеха Керангаль, написавшую к тому моменту уже шесть книг, заметили и в России. Так, в прошлом году до нас добрался предпоследний на данный момент роман писательницы - «Чинить живых» - а теперь, бессовестно нарушая хронологическую упорядоченность, пришла очередь «Моста».
Если в дебюте Маилис на русском речь шла о трансплантации органов и сопутствующих ей эмоциональных турбулентностях, то нынешнего гостя легче всего аттестовать как производственную эпопею. Мэр нафантазированного, но стремительно развивающегося американского городка Кока решил построить мост - да такой, чтоб даже у арабских шейхов куфии встали дыбом. Амбициозная затея электризует все вокруг и, как пылинки, притягивает разных людей из разных уголков планеты. Разумеется, не обойдется без столкновения интересов, капиталов, идей и человеческих судеб. Дальнейший пересказ сюжета рискует стать обременительно бесполезным: люди строят мост - вот, по большому счету, и все, что нужно знать.
«Мост» - это история скорее про форму, чем про содержание, и, при несомненном наличии последнего, до каких-то ошеломительных глубин Керангаль не добирается. Другое дело оболочка: восторгающимся французским критикам виднее, но даже в переводе текст то несется неудержимой клокочущей стремниной, то, чуть затухая в излучинах, устремляется к обрыву, чтобы с многотонным уханьем обратиться в водопад. Слова и предложения цепляются друг за друга, отсутствие диалогов и бесконечные ряды перечислений, метафор, мыслей сливаются в подчас раздражающее, но первобытно мощное камлание, в монолитный селевой поток. Эта лавина несет себя вместе с читателем к последней странице, но сюжет то и дело выныривает, собирается из обрывков прошлого и настоящего, выглядывает из-за технических сводок, смыкается в районе маленьких человеческих историй. Неизменно трагичных, но никогда не превращающихся в трагедию - мозаичные жизни людей сплетаются, расплетаются и бледнеют - чуть больше, чем хотелось бы - в тени моста.
Язык, которым написан роман, тоже словно сплетается и расплетается: «Невероятная скорость, невероятные временные перебивы, невероятное жонглерство языковыми стилями - старое французское арго, высокий штиль, поэтические фрагменты с подрифмовками, современный довольно жесткий язык, и не без ругательств - представьте все это в одном» - говорит переводчик «Моста» Ася Петрова. Представить сложно. Но если подбирать аналогии - невесомая чуточка уайлдеровского «Моста короля Людовика Святого» и много-много фолкнеровской словесной взвеси. Вряд ли стало понятней, так что предлагаем просто почитать.
Мост
Пролог
Сначала он повидал северную Якутию и город Мирный, где проработал три года. Мирный, шахта, полная
бриллиантов, вмерзших в землю и погребенных под слитками затвердевшей почвы, серой и грязной, обреченная тундра, запятнанная изъязвленным углем и концентрационными лагерями, пустыня в ночном ознобе, трепанируемая одиннадцать месяцев в году снежной бурей, от которой голова трещит по швам; под этой землей все еще покоятся разрозненные кости и гигантские, грациозно выгнутые рога, носороги в броне, замшевые белуги и замороженные карибу, — все это он представлял себе, сидя в баре отеля со стаканом крепкого полупрозрачного зелья; маскирующаяся под законопослушную даму проститутка, как и прежде, расточала ему свои ласки, предлагая либо уехать в Европу и жениться на ней, либо перепихнуться за деньги, но он не дотрагивался до нее, просто не мог, — что угодно, только не спать с этой продажной женщиной; и пропади все пропадом. Чтобы дотянуться до бриллиантов Мирного, надо было рыть, взрывать вечную мерзлоту динамитом, буравить Дантову дыру, необъятную, как сам город, — в нее поместились бы вверх тормашками пятидесятиэтажные башни зданий, которые вот-вот вырастут неподалеку; вооружившись газовым факелом, опускаться вниз по трахее, ломать перегородки, копать землю, разбрасывать тут и там, как паутину, ветвистые подземные ходы и асимметричные галереи, далекие, темные, укрепленные; прокладывать коридоры и рельсы, электрифицировать глиняную пещеру, прошибать тонны грязи, процарапывать булыжники, просеивать кишки дохлых животных — в поисках невиданного сияния. Три года. Контракт истек, и он возвращался во Францию на борту «Туполева» (не самый дешевый рейс) — его кресло в экономклассе насквозь продавлено; стюардесса металлическим инструментом прощупывает обивку, пытаясь обезвредить чертову пружину, впивающуюся ему в поясницу, — впереди несколько контрактов и стройка в Дубае: из-под песков вынырнет шикарный отель, отвесный, как обелиск, и бессмысленный, как пальма; из стекла, на этот раз из стекла и стали, с лифтами, похожими на мыльные пузыри, которые скользят туда-сюда в позолоченной трубе, с холлом из каррарского мрамора, а посреди холла будет фонтан, журчащий в тональности нефтедолларового люкс-мажора, и повсюду — блестящие зеленые растения, мягкие кожаные диваны, профильтрованный воздух кондиционера. Дальше — новые препятствия, новые подвиги. Футбольный стадион в Чэнду, пристройка газового порта в Кумане, мечеть в Касабланке, нефтепровод в Баку — в этом городе люди ходят по улицам быстро, у них темные габардиновые костюмы, зрительно уменьшающие бедра, галстуки, чьи узлы напоминают маленькие сжатые кулачки на твердых горловинах рубашек, черные шляпы с тремя заломами, тонкие усики, — сплошные Шарли Азнавуры; он только успевает по телефону оповещать маму — водоочистительная станция на севере Сайгона, отельный комплекс для белых в Джербе, киностудии в Бомбее, космический центр в Байконуре, туннель под Ла-Маншем, плотина в Лагосе, торговая галерея в Бейруте, аэропорт в Рейкьявике, свайные дома в самом сердце джунглей.
Телепортируемый от биотопа к биотопу, привыкший к многочасовым перелетам, часто на борту убогих самолетиков с двумя газотурбинными двигателями, он никогда не проводит больше полутора лет в одном месте и не путешествует, потому что устал от экзотики, переел ее грубой заурядности — повсюду господство белых и восстания против мстительной колонизации одноклеточных, против наркотиков и продажных женщин, против западных девизов; он довольствуется малым, а живет чаще всего в простеньких квартирках, которые предприятие снимает неподалеку от стройки; не таскает с собой никаких игрушек и фотографий родственников, которые можно куда-нибудь пришпилить, например на дверь, зато у него есть книги, диски, огромный телевизор с изображением ярким, сочным, как продукты «Buitoni», и велосипед, классный механизм из углеродного волокна, чья дорогостоящая транспортировка каждый раз составляет беспрецедентную статью контракта; он все покупает на месте: бритву, шампунь, мыло, — обедает в прокуренных, поросших жиром закусочных, дважды в неделю проглатывает стейк, приготовленный по международному рецепту в ресторане отеля; встает рано, работает по четкому расписанию, каждый день устраивает после обеда короткую сиесту; когда погода милостива, запрыгивает в седло велосипеда и не слезает с него, пока не проедет по меньшей мере пятьдесят километров, лицом к ветру, грудью вперед, уперев ноги в педали и наматывая запредельную скорость; потом в город выкатывается ночь, она идет или крадется, его вспотевшие виски охлаждены волной воздуха, мозг впитывает местные выражения, язык всех гор и морей, как pidgin-english, который доносится из клубов, борделей, игорных домов и баров. Откуда же еще, ведь архитектор дипсоман, все это знают, и давно.
Двадцать лет в таком режиме кого угодно превратили бы в труп, каждая стройка требовала реинкарнации, адаптации к новым условиям — климатическим, дерматологическим, фонологическим, пищеварительным, уже не говоря о новом укладе повседневной жизни, требующем выполнения определенных, неведомых доныне действий; его сознание обновлялось, становилось сильнее, взывало к экспансии; иногда по вечерам, когда сослуживцы расходились, он останавливался перед уменьшенной планисферой, приклеенной к стене, вытягивал одну руку влево, другую вправо и расширенными зрачками прослеживал маршрут своего бытия от острова Пасхи до Японии, отсчитывая на земном шаре точки, куда ступала его нога. Каждая следующая стройка взаимодействовала с предыдущими, точь-в-точь как одно бедро у исполнителя сальсы играет с другим; новый опыт скрещивался со старыми, активизируя в организме все достижения прошлого. Но если его тело от постоянных странствий изнашивалось не быстрее, чем тюфяк — по мере движения часовой стрелки, то его разговорная практика принимала дурной оборот: любой язык, на котором лопотали строители, воспринимался им легче легкого, постепенно вытесняя и без того изъеденный молью французский — доходило до того, что порой даже его коротенькие письма к матери было трудно разобрать. Двадцать лет в таком режиме прошли для него как один ничем не примечательный день.
Все хотели знать, из какого он теста, бродили вокруг него кругами. Считали его инженером-космополитом, продажной железобетонной шкурой, терпеливым первопроходцем тропических лесов, преступником с несколькими судимостями, алкоголиком, играющим в дезинтоксикацию, бизнесменом со склонностью к суициду, курильщиком опиума под деревцем плюмерии: отрешенный взгляд устремлен на темную монгольскую степь, между бедер, в нескольких сантиметрах от паха — бутылка только что из холодильника; его принимали за простого ковбоя, родом из ниоткуда, обреченного на бессмысленную работу и готового на все ради успеха — небезосновательно, недалеко от истины, уже теплее, но вызывает смех, а в действительности — был ли он всеми этими людьми одновременно, синхронно, или последовательно, по очереди? — ну конечно, он был множественным, как палитра, и поэтому в каждом окошке ставил галочку, а не прочерк. Всем хотелось, чтобы он оказался героем в поисках себя, загадочным, потерянным, сломленным неясной силой, а потому в бегах, миля за милей — пятится назад, чувствует угрызения совести, раскаивается в предательстве; наверное, здесь не обошлось без женщины, она осталась в большом городе с другим; она не призрак, она существует, дышит полной грудью и живет с его соперником; иногда, если архитектор проездом во Франции, они встречаются, у них свидание в Париже, она приходит минута в минуту, волосы развеваются, глаза блестят, радости нет предела, они опять вместе, чертят свой маршрут по городу, не рука в руке, но сердце в сердце, ночь напролет болтают в каком-то баре, одна бутылка пива за другой, постепенно пьянеют, целуются на восходе, занимаются любовью, сплетают свои вздымающиеся тела и расстаются, спокойные, как король с королевой в придуманном иллюзорном времени, поворачиваются друг к другу спинами так доверительно, что весь мир нашептывает им — спасибо. Зазорно быть столь одиноким, вредно для здоровья, неразумно, все жаждут докопаться до его любовных связей, узнать, есть ли у него девчонка, красавица, блондинка, преданная, молодая, из каких-нибудь консульских кругов, или мальчик; есть ли у него тараканы, первородные грехи или вообще хоть что-то первородное, травма детства, скорбь в глубине — в глубине чего? — никто не знает. Поэтому он редко возвращается во Францию — а как же его мать? Раз он ей пишет, значит, она где-то существует? — однако он обходит шестиугольную республику недоброжелательным молчанием, от страны остается лишь вписанное в паспорт гражданство, внушительный банковский счет, слабость к интересным беседам, комфортной жизни и велосипедной гонке Париж — Ницца. Всем хотелось бы считать его погруженным в бездны себя, зацикленным, слабым, это было бы гораздо проще и легче принять — энергичный мужчина с пристрастием к взрывоопасному алкоголю непременно таит в себе какую-то загадку — всем бы хотелось думать, что он не способен любить, что у него нет сердца, что он спасается от своих терзаний работой. Что он меланхоличен. Впрочем, у его коллег со строек подобные бредни вызывали только недоумение: слащавые клише, бабские фантазии, поэтический пердеж. Их пожимание плечами и лукавые взгляды ломали маленькую фигурку из папье-маше, ведь они видели героя собственными глазами, могли его потрогать и попробовать на вкус. Они говорили: о’кей, это правда, время для него ничего не значит, все, что происходит, все, что проходит, не имеет для него смысла, не трогает его, не вызывает ни любви, ни отвращения — потому ли, что он один, один во времени, один, сраженный ударами судьбы, нос к носу с потерями, с грязной мыльной жидкостью на дне ведра, кишащего бациллами, с лохмотьями грусти на кончиках пальцев, словно со старыми пластырями, которые надо отрывать зубами? — он не совсем каменный, допустим, но непроницаемый для размышлений, для интересов, для прошлого, для национального самоопределения, для истории, для удовольствий, он каждый день боится смерти, как и прочие, вот и всё. Они говорили: его время меняется по щелчку пальцев — one! two! three! four! let’s go! — они подкрепляли слова жестом, изображая стартовый бросок, стремящийся к цели, к выполнению трудового плана, к дедлайну, указанному красными чернилами в нижнем углу контракта, согласованному с графиком работы и сезоном — дождей и свивания гнезд, хотя последнее не особо учитывалось, позднее станет ясно почему. Они говорили: его время — настоящее, мгновение или вечность; действовать правильно, контролировать ситуацию — его единственный закон и единственная в жизни работа, вот так все просто. И еще: этот человек знаком с жизнью не понаслышке, он знает, что почем, — сам бы так сказал, насмешливо, прикрыв глаза; с сигаретой в клюве, прибавил бы, не мигая, что именно здесь — приключения, риск, реальная жизнь, — и с этими словами ударил бы себя в грудь двумя сжатыми кулаками, как большая горилла из тропических лесов; впрочем, иногда он переставал смеяться, поднимал голову и с видом философа заявлял — я ненавижу утопии, этот маленький мирок, химерическую жемчужину невесомости бла-бла-бла, тупик, хорошо размалеванную миниатюру; для меня это не панацея, так и знайте, меня это не интересует, я от этого не торчу, я в этом ничего не нахожу: меня зовут Жорж Дидро, и мне нравится работать с реальностью, играть параметрами, держать в руках пустой участок земли, голый, участок без трусов — на нем-то я и строю самого себя.
Он разоблачает пространства, прочесывает просторы, захватывает земли, воздвигает здания, питается словами, звуками, красками и запахами тел, трепетом толпы мегаполисов, революционным волнением, овациями на стадионах, блеском карнавалов и парадов, кротостью диких животных, наблюдающих за стройками сквозь заросли бамбука, показами кино на пленэре посреди лужайки — когда экран устремлен в темное небо, когда небеса теснятся, а времена им подыгрывают лаем собак на излете виражей. Изнаночный, сконцентрированный, эмпирический, циничный: внутренний опыт никогда не бывает спрятанным, — бормочет он, смеясь, когда люди, разочарованные тривиальностью человека, донимают его, пытаясь докопаться до сути, до глубины, до внутренней стороны его бытия, — опыт не морщина, а рана, и мне нравится, когда она разверста.