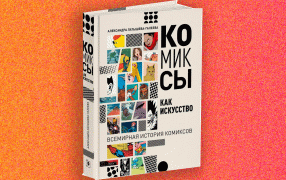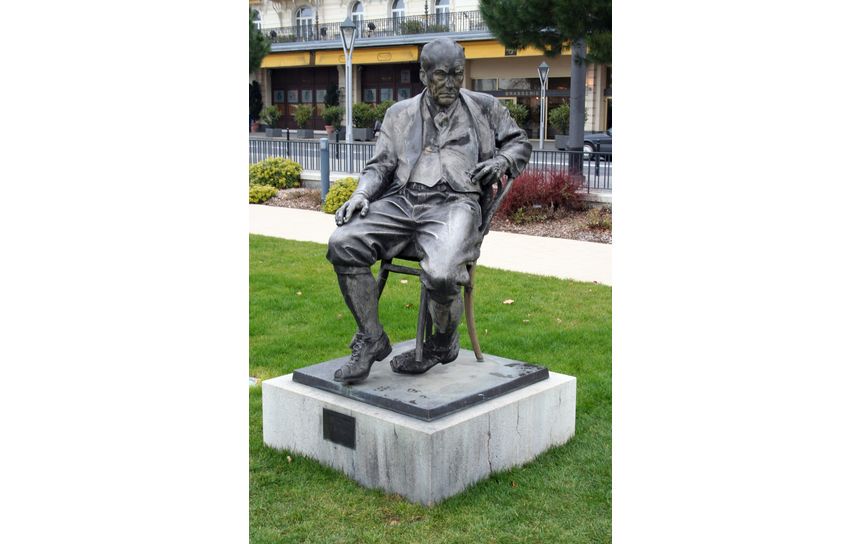Интервью: Михаил Визель
Фото Сидни Вичидомини из ее фейсбучного аккаунта и с ее личного сайта
Несмотря на все сложности, 2020 год объективно складывается удачно для давно живущей в Москве итальянки Сидни Вичидóмини (Sуdney Vicidomini) - писательницы, переводчицы, преподавательницы английского (!) языка, театральной актрисы и видеоблогера. В феврале в миланском издательстве Francesco Brioschi Editore вышел в ее переводе роман Григория Служителя «Дни Савелия», а ее оригинальный рассказ попал в финал русско-итальянской премии «Радуга» (в финал которой она вышла также как переводчица чужого рассказа), и в этом качестве опубликован в одноименном московском двуязычном альманахе. Рассказ называется «Багдад», но речь в нем идет не о Ираке, а родном городке Сидни на юге Италии. Чье точное название она предпочитает не упоминать. Почему - станет понятно из прочтения.С разрешения фонда «Постигая Евразию» (Conoscere Eurasia) и банка «Интеза», издающих альманах, мы перепечатываем этот рассказ, в котором себя и свои обстоятельства могут узнать не только итальянцы, и предваряем его блиц-интервью с Сидни. Которое она дала на русском языке.
Практически нет поэтов, которые не начинали бы писать (со временем) авторской прозы; но переводчиков - оригинальных прозаиков очень мало. Из русских можно вспомнить Марка Харитонова, переводчика Гессе и Кафки и одного из первых лауреатов «Русского Букера», из итальянцев - Томмазо Ландольфи, одного из крупнейших итальянских писателей ХХ века, переводившего при этом Гоголя и Пушкина. Что для тебя было первым в литературе - художественная проза или художественный перевод?
Сидни Вичидомини: Я бы сказала, что первой в литературе для меня была художественная проза. В школе литература и вообще языки были моими любимыми занятиями - в 6 лет попросила у Бефаны (добрая колдунья, которая приносит итальянским детям подарки на Рождество. - Ред.) пишущую машинку, использовала ее, чтобы запечатлеть, что происходило вокруг меня. Когда мне было 10 лет, мы путешествовали по берегам Италии на яхте и в маленькой тетради я писала то, что случалось на борту каждый день. Со старшей школы я стала видеть собственную жизнь как большой роман, где из главы в главу люди и ситуации возвращаются как по спирали, приобретая разные формы и лица. Писала рассказы и стихи, много чего сжигала в камине. Когда взрослеешь, писать становится труднее: чувствуешь ответственность и даже, наверное, боишься опозориться.
Перевод появился позже, и это не было на уроках латинского (латинский мне давался трудно, и как преподаватель языков я считаю, что неправильно переводить с целью понимать, а скорее полезнее переводить потому, что понятно). Я была уже в университете, когда начала переводить с английского и с русского. Тогда мне удавалось переводить как раз потому, что я понимала. В 2015 году я победила на конкурсе переводов с русского «A parole tue» («Tвоими словами») Bologna Children Book Fair. И только тогда начала думать более серьезно о себе в роли переводчика.
Рассказ-мемуар «Багдад», действие которого происходит вовсе не в Ираке, а на итальянском юге, показывает, как много общего между Россией и Италией. Во всяком случае, так может показаться русскому читателю, самому в таком итальянском городке не жившему. Ты довольно долго живешь в России; видишь ли ты по-прежнему такое сходство?
Сидни Вичидомини: Я бы хотела поправить, ведь я живу не в России, а в Москве, и это большая разница. Взгляд рассказчика в «Багдаде» - это как раз взгляд человека, понимающего жизнь в маленьком городе так же глубоко, как и в мегаполисе. Конечно, до сих пор я вижу сходство: я была не раз в русских деревнях и могу представить себе, какова жизнь в «провинции», особенно благодаря рассказам (или даже «не рассказам») моих сверстников, которые приехали в Москву из других регионов России. Но что интереснее, на самом деле, — это сходство во взглядах. Рассказ называется «Багдад» не только потому, что так называют городок его «не очень молодые» жители, а потому, что, с литературной точки зрения, в этом случае один город равен другому. Я ни разу не говорю настоящее название ни своего выдуманного, ни реального города. Главное, чтобы название намекало на сущность. С этой точки зрения, конечно, любой город «провинции» в похожем состоянии мог называться «Багдад».
Багдад
Сидни Вичидомини
Перевод на русский язык Антона Мараева
Мой городок – это настоящая дыра. Здесь ничего нет. И я никогда не хотела бы сюда вернуться.
Но все же нельзя сказать, что в моем городке совсем ничего нет. Начнем с того, что в нем есть банкомат, который взорвали, – единственный банкомат в окру́ге, а оплату по карте у нас не принимают. На небольшой площади перед почтовым отделением банкомат демонстрирует свое нутро распятию, висящему на стене напротив – груду оплавленной пластмассы и обугленных проводов. Иисус c поникшей головой и пронзенным боком не сводит с него печального взгляда. Люди проходят мимо или проносятся на «веспах», и никто не поможет ему сойти с креста.
После истории с банкоматом местные ребята – те немногие, что остались, считая еще двух-трех, которые уже сидят на чемоданах (всем им около тридцати, стало быть, они не вполне «ребята»), – прозвали наш городок «Багдад». Поэтому и я теперь зову его Багдадом.
Он как место боевых действий, только здесь бомбардировку ведет тишина. Вместо грохота взрывов и стрекота автоматных очередей удары наносит молчание дроздов и сорок (кажется, люди здесь потеряли аппетит и птицам нечего есть), да редкие машины то здесь, то там оставляют черные полосы на старом асфальте. Из Багдада хотят сбежать все и, кажется, почти все безнадежно запутались в его паутине. Я в их числе. Потому что таскаю в своем багаже все, что, как мне казалось, оставила в прошлом.
Первая машина, старая колымага, у которой бампер держался на честном слове, одиноко летела по грунтовой дороге посреди равнины. На краю поля, где выращивали лук, виднелись одуванчики и сухая ферула. Мы, провинциальные актрисы, выпускницы академии при культурном центре, ехали на поиски театра. Но у этого театра не было здания, театр представлял собой покатую площадь: сцена шла под уклоном, софиты стояли под уклоном, мы сами и вся труппа выступали под уклоном. У моей лучшей подруги, верного спутника в экспериментах с макияжем и краской для волос, за которыми мы проводили в ванной всю вторую половину дня, на лоб спадала прядь цвета красного дерева. Подруга опустила стекло и закричала во весь голос, чтобы слышали горы и дома с осыпавшейся штукатуркой, под которой проглядывали камни: «НИЧЕГО!!! НИЧЕГО!!!»
Медные кастрюли, сулившие нам несчастье, медные кастрюли на стенах и мебель в стиле «арте повера». Кастрюли просто висели, они были лишь частью декорации, мебель обошлась во внушительную сумму. Но наш дом «был и правда прекрасен, на улице сумасшедших, дом номер ноль». В нем были камин, стенной шкаф, стены из красного кирпича. Он походил на дома из журналов, из серии «Руками не трогать!», «Не пачкать!», «Не бегать!», «Не вешать постеры!», «Прошло всего пять минут, а уже все в грязи!», «Черт возьми, я же только что все здесь вымыла!». «Твоя жизнь будет лучше нашей», – говорили мне. Лучше, чем мечты о медных кастрюлях, развешанных на стене для красоты.
Изучение катехизиса отбирало время у сольфеджио и классического танца. Главное – помнить о грехе, потому что душа должна предстать перед Иисусом чистой: не скажу, что как новенькая, но, по крайней мере, простиранная с «Перланой». Понятие греха было самым сложным, потому что грех проникает тебе под кожу, как микрочип, и всю дальнейшую жизнь ты делаешь неправильный выбор, неверные шаги. Нужно идти вперед, а ты даже не замечаешь, что находишься во власти страха и под чарами греха. Под чарами распятых Иисусов. Уклонов. Ничего. Медных кастрюль и мебели в стиле «арте повера».
Фарфоровые куклы – самая «полезная» вещь среди бонбоньерок, что дарят на свадьбах родственников, чьих имен ты не помнишь. Ночью они прятались под кроватью и говорили со мной. Я писалась от страха, просыпалась, бежала по коридору – родительская спальня еще никогда не была так далеко, – поскальзывалась, падала на холодный кафель. Во сне я встречала Сатану, во весь голос читала «Отче наш», чтобы избавиться от него, давила ногами змей.
Мое померанцевое дерево. Между ветвей, наверху, куда было запрещено забираться, среди цветов померанца я спрятала полотенце в пластиковом пакете, зубную щетку, тетрадь, ручку и пять тысяч лир. Хотела убежать из дома.
А еще застолья на Рождество и Новый год, «Радуйся, Мария, окончены странствия твои!», вертеп моего дяди, которому всегда хотелось выделиться, и потому каждый год он устраивал фонтан с новыми спецэффектами, а мы, дети, впадали в изумление или начинали реветь, ведь лучшее, что мы могли смастерить – домики из сигаретных пачек и втулок от туалетной бумаги. Пять тысяч лир от тетушек и дядюшек и десять тысяч от бабушки. Бабушка водила нас к своей кузине, а у той жила бабушка старше нее, звали ее Наннинелла. Когда Наннинеллу спрашивали: «Наннине́, что ты помнишь о мире?» – она отвечала на диалекте: «Вид из окна».
«Я еще слишком мала, чтобы любить тебя». Нам было уже по двадцать, но мы все еще были слишком малы. Багдад оставался Багдадом, не меняясь с тех пор, когда он еще не назывался Багдадом и мы на велосипедах представляли себя ковбоями Дикого Запада на лошадях или байкерами Восточного побережья. Ничего не изменилось, даже когда вместо телефонов с витым проводом лакричного цвета, длины которого хватало, чтобы закрыться в ванной, а во время разговора ты накручивал его на палец, появились эти дьявольские устройства, по которым можно созвониться даже по видеосвязи.
Так, однажды, когда мне было уже ни к чему прятать пластиковый пакет на верхушке дерева, я собрала чемодан и уехала. В то время было модно говорить, что во всем виновато правительство, что государство от нас отказалось. О медных кастрюлях, о фарфоровых куклах никто и не вспоминал.
Только сейчас я понимаю, столько окон мне довелось повидать, сколько рассветов, сколько вечеров подряд я завороженно смотрела на города в электрических сумерках, согревая руки чашкой чая, и вспоминала мой Багдад – идеальный, защищенный мирок, в котором до меня доносились приглушенные удары барабана триумфальных маршей в честь побед, которыми я когда-нибудь смогу насладиться. Нам не говорили правду. Они и сами ее не знали. В Багдаде театрами преимущественно служили площади под уклоном. Кто знает, может, под уклоном было и окно Наннинеллы?
Мир внутри домов, который я видела из своих окон, был минималистичным. Зато у меня были тридцать килограммов регистрируемого багажа, десять килограммов ручной клади, пылесосы и миксеры, переходящие от одного переселенца к другому, разве что чемоданы были не из картона. Снаружи все менялось в мгновение ока, карусель событий. Если в Багдаде в день происходило одно событие, снаружи их происходил десяток, сотня, тысяча. Если в Багдаде на фасаде дома было десять окон, из которых свет горел в пяти, снаружи свет горел в сотне окон, даже глаза разбегались – бесконечность маленьких театральных занавесов. Сколько жизней разыгрывали за каждым окном, зачем их было так много, если, в конечном счете, все они походили друг на друга? На сон не хватало времени: нужно столько всего успеть, нужно открыть столько окон, и из-за каждого окна, которое не получалось открыть, сердце переполняла досада, тебе словно давили на грудь, всякий раз вынуждая вылезать из кожи, как змею. Ты должен был вылезти из своей дыры, из своего кошмарного рая и сбежать, нестись со всех ног, взлететь, перемещаться от одного окна к другому, как белая занавеска из тафты, что выскользнула из рук, вырванная ветром. Хотелось уцепиться за каждый занавес и из каждого окна спеть свою песню.
Но даже если мой городок и был настоящей дырой, в которую мне никогда не хотелось возвращаться, в конце концов, рано или поздно, так или иначе я всегда возвращаюсь.
Я снова вижу взорванный банкомат, Христа, смирившегося с тем, что перед ним пробегают люди, надеющиеся на спасение только в вечной жизни, идущую под уклоном площадь, где открыли пивную, и несколько оставшихся ребят (всем им около тридцати, стало быть, они не вполне «ребята»), которые прожигают время, убежавшее от них до того, как они попытались его схватить. Пропало только померанцевое дерево. Его выкорчевали, чтобы расширить парковку.
Мне не хотелось и в этот раз, но я все же приехала. Как американская тетушка, разве что немного запыхавшаяся: как здесь говорят, «с таким видом, будто несешь в кармане снег». Главное, чтобы никто не спросил, когда я заведу детей, нравится ли мне больше дома или снаружи , в большом мире, и что я думаю о геополитических проблемах, которые само собой не решить за барной стойкой, раз на протяжении десяти лет мы не можем решить, где лучше поставить диван в гостиной. Бабушки уже нет в живых – как нет и моего дяди, который всегда хотел выделиться, и даже лир больше нет, – но я всегда с удовольствием хожу проведать ее кузину, теперь она тоже бабушка, а дома у нее живет бабушка еще старше… Наннинелла.
Я сидела в старом плетеном кресле у изголовья ее кровати, окруженной святыми со щенячьими глазами и Иисусами на крестах, напротив широко открытого балкона, который выходил во двор. Двухэтажный дом, типичный для этой местности, как всегда, был окутан легким туманом. Я пила небольшими глотками миндальное молоко и ждала, пока закончится ритуал из самых неудобных и бесконечных вопросов, как вдруг Наннинелле, должно быть, что-то привиделось, и она произнесла:
– Море. В первый раз я видела море, когда мы ездили в свадебное путешествие.
Порыв ветра приподнял нижний край занавески, и в комнату влетела пчела. Мы слушали ее жужжание.
– А вот ты, ты была снаружи… Что ты запомнила о мире?
Обычно у меня нет ответов, я даже не знаю, на какие вопросы мне хочется отвечать. Однако в тот раз, в единственный раз, я знала ответ.
– Вид из окна.