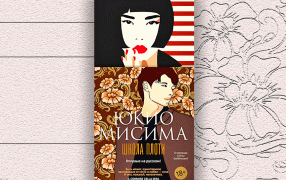Текст: Михаил Визель/ГодЛитературы.РФ
Жизнь Исаака Бабеля окутана мифами, которые он сам охотно поддерживал, а его творческое наследие легко свести к нескольким клише - к чему резкий, афористичный стиль Бабеля располагает. «Что сказать тете Хане за облаву. - Скажи: Беня знает за облаву». Или еще более знаменитое: «Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони». И, наконец, открытый манифест, в том же узнаваемом стиле: «Уже в ту пору - двадцати лет от роду - я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десять в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого».
Вообще-то когда писателя можно узнать по одной фразе — это признак его класса. И к Бабелю это грубоватое правило относится в полной мере. Никто из целой плеяды писателей-одесситов 1920-х годов (от Багрицкого до Олеши и братьев Катаевых) не сделал так много для создания и закрепления имиджа "Одессы-мамы" — места вавилонского смешения народов и, как следствие, центра невероятной жизненной силы, нашедшей свое законченное воплощение в «Одесских рассказах» Бабеля.
Еще поразительнее метаморфоза, произведенная им в «Конармии». Под его пером неудачный поход Первой конной на Польшу в 1920 году превратился в эпос о полубогах и героях-кентаврах, которые даже в гневе и страстях по-олимпийски величественны и невозмутимы. И это сознательная установка. Бабелевское «Мы оба смотрели на мир...» далеко не случайно. Это «мы» далось ему потом и кровью, став его личным революционным завоеванием. Молодой еврейский интеллигент с явными литературными задатками, посланный Максимом Горьким «в люди» набираться опыта, сознательно переламывал себя, чтобы стать "новым человеком" и ощутить единство с новым порядком - который он, переживший уже (и описавший в своих рассказах) опыт и погромов, и унизительных запретов, искреннее приветствовал.
Это очень ярко показано в рассказе «Мой первый гусь» - поразительном образчике европейского модернизма с его «нулевой степенью письма», неожиданно возникшем на самой неподходящей почве. Бабель описывает, как его автобиографический герой совершает нечто мерзкое, прямо противоположенное его убеждениям, чтобы стать своим для конармейцев. И благополучно проходит инициацию. Только завершается рассказ так: «и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло», но об этом конармейцы не догадываются.
Любовь к кентаврам, восхищение ими, сказалось и на устройстве личной жизни. Бабель нашел себе (правда, не с первого раза) жену не менее поразительную, чем герои Конармии: сибирячку Антонину Пирожкову, женское воплощение «нового человека»: к неполным тридцати годам она стала ведущим инженером Метростроя, а всего прожила более ста лет... и шестьдесят с лишним лет не просто хранила память о своем незаурядном муже (о расстреле которого в 1940 году она узнала только в 1955, а до этого была уверена, что он в лагере), но и всячески помогала исследователям.
И эта же любовь к «новому человеку», к экстремальным проявлениям «новой жизни», похоже, и спровоцировала его гибель. Бабель охотно общался с энкаведешниками, включая самого Ежова, пил с ними и выслушивал их рассказы. Уже в 60-е годы Надежда Мандельштам вспоминала: «О.М. (Осип Мандельштам. - Прим. автора) спросил, почему Бабеля тянет к "милиционерам". Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? "Нет,— ответил Бабель,— пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?" <...> Я уверена, что Бабель ходил к нему (к Ежову. - Прим. автора) не из трусости, а из любопытства — чтобы потянуть носом: чем пахнет?»
В начале XXI века Исаак Бабель снова оказался неожиданно актуальным — хотя его арестованный вместе с ним самим архив так и не нашелся. Дело не только в высочайшем качестве его лаконичной прозы, и дело даже не в том, что Бабель едва ли не первым из больших русских писателей понял потенциал (в том числе финансовый) кино и охотно писал оригинальные сценарии и «адаптации», своих и чужих произведений. Важнее другое. Поколение девяностых может узнать себя в его героях. Юным филологам и философам, физикам и инженерам, в середине 90-х ставшим пиарщиками и рекламщиками, коммерсантами и овладевшими бог знает какими еще профессиями, о существовании которых они в школьные годы и не подозревали, пришлось совершить над самими собой такую же насильственную трансформацию, что и лирическому герою «Конармии». И им нелишне будет вспомнить, чем всё закончилось.