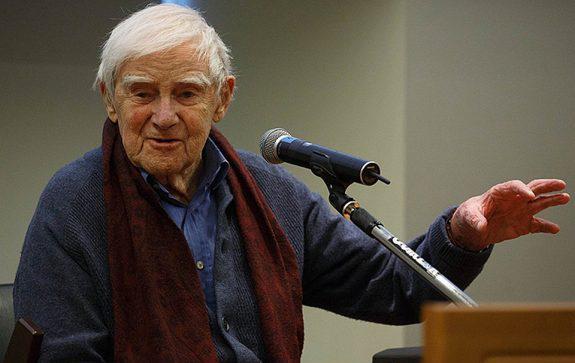Материал подготовил Александр Мелихов
Александр Мелихов:

Начну с темы «Гранин и наука». Для писателя это редкая удача, когда в народ имя его героя уходит раньше, чем его собственное имя. Даниилу Гранину эта удача улыбнулась почти на старте: имя Лобанова я услышал раньше, чем имя его создателя. Когда мой брат, будущий высококлассный инженер, вступал в комсомол, своим любимым литературным героем он назвал не канонического Павла Корчагина или Олега Кошевого, а инженера Лобанова из романа «Искатели». Но я только через много лет понял, что Гранин один из первых и очень немногих пытался подтолкнуть нашу власть к развороту от романтики войны к романтике научно-технического творчества, однако наши идеологи прислушаться не пожелали, они хотели совместить несовместимое — творческую свободу и социальную униженность. Но Макиавелли правильно учил: не наноси малых обид, ибо за них мстят, как за большие. Мелкие, но постоянные унижения не позволяли нам ощущать свою жизнь красивой, а это одна из важнейших потребностей сколько-нибудь культурного человека. Советский Союз и был погублен эстетическим авитаминозом.
Однако Гранин по мере сил противостоял этому авитаминозу — именно его роман «Иду на грозу» открыл мне, что романтичны не только моряки, летчики и блатные, но также и физики: они обладают всеми классическими мужскими доблестями — прыгают с парашютом, покоряют красавиц, — но при этом еще и необычайно умны и остроумны, они творят историю собственными руками.
Так что
Гранин серьезнейшим образом повлиял на все мое поколение и прежде всего на мою личную судьбу.
Именно поэтому я не мог избавиться от робости перед ним, даже когда между нами установились, мне кажется, очень теплые отношения. По крайней мере, когда я ему звонил, он всегда говорил растроганно: «Как это приятно!», — хотя уж вниманием-то он был никак не обделен. Но, мне кажется, он видел, что я испытываю к нему не обычное почтение, с которым к нему относились решительно все, но что-то вроде сыновних чувств: тебя, как первую любовь…
И это была не только благодарность за открытие нового мира, это было еще и сострадание и благодарность к одному из последних могикан того поколения, на долю которого выпали ужаснейшие испытания и которое до сих пор пытаются объявить поколением сталинских рабов. В сравнительно полном объеме я выразил эти чувства в романе «И нет им воздаяния», а самому Даниилу Александровичу я их выразить так и не посмел — не решался заговаривать с ним на личные темы. Я даже невольно вставал со стула, когда говорил с ним по телефону.
А он однажды посетовал, что к нему приходят и звонят в основном по каким-то делам, а просто поболтать заходят редко. «Вас же все побаиваются», — сказал я ему, и он усмехнулся: «Это даже лестно. А что мне сделать, чтобы меня не боялись?» — он спрашивал с улыбкой, но не совсем шутя. «Не нужно быть классиком», — ответил я, тоже не совсем шутя.
Это правда, писатели, которых узнаешь в романтической юности, навсегда остаются такими олимпийцами, что уже никогда решаешься заговорить с ними по-человечески. Хотя понимаешь, что и они всего лишь люди, что и они, как и все мы, нуждаются не только в уважении, но и в тепле. Однако не знаю, много ли тепла получал Гранин за пределами семейного круга.
Вторая важная тема — «Гранин и блокада». Разумеется, и до Гранина с Адамовичем «блокадный подвиг ленинградцев» постоянно (и более чем заслуженно!) воспевался как нечто героическое. Но, скрывая от нас, так сказать, «низкую» сторону ужасов, глупые советские пропагандисты, тем самым обесценивали и сам подвиг. Ведь только контраст между теми, кто сдался голоду и холоду и превратился в зверя, и теми, кто отстоял свои ценности, позволял оценить масштаб их мужества.
А после своего триумфального выступления в том самом здании рейхстага, которое мы столько раз видели в военной кинохронике, Гранин мне рассказывал, что до последней минуты колебался, пощадить немецких слушателей или врезать им правду-матку. И в последний момент решил: а пусть послушают! И рассказал, как мать кормила старшую девочку супом из кусочков мяса, которые она отрезала от замороженного трупика ее младшей сестренки. Рассказал, как весной люди черпали воду из Невы, отталкивая плывущие по воде трупы. Но в итоге история блокады для него была не историей людоедства и утраты брезгливости, а историей совести: спасались те, кто спасал других.
И ему аплодировали стоя. И он сам во время своего долгого выступления ни разу не присел.
Вот что еще помимо прочего дает долгая жизни — человек становится представителем ушедшего поколения, его голосом начинает говорить сама история.
Если, конечно, он был вписан в историю так, как в нее был вписан Даниил Гранин. Я и робел-то перед ним больше всего именно из-за этого — мне казалось, со мною говорит сама истории.
А «Мой лейтенант» открыл еще и умение Гранина-эпика писать пронзительную исповедальную прозу. Притом военную.
Лирический герой «Моего лейтенанта» предстает то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то перепуганным ребенком, способным разрыдаться от ласкового слова, а после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война воняет мочой». Но именно из-за того, что он ничуть не приукрашивает себя, мы и проникаемся к нему нежным сочувствием и доверием — и верим, что именно так и происходит превращение перепуганного пацана в солдата.
Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепенно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.
Василий Гроссман в очень сильном романе «Жизнь и судьба» все же довольно ученически воспроизводит схему «Войны и мира»: наткнувшись на неодолимое сопротивление русских при Бородине, Наполеон утрачивает свое сверхчеловечество и понимает, что беззащитен перед случайным ядром или отрядом противника — и впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает понимать, что ему может выстрелить в спину каждый часовой — и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые еще недавно обсуждал со сверхчеловеческим спокойствием. Подобно Толстому, Гроссман тоже усматривает источник воинской доблести в чувстве «мы»: когда «мы» начинает распадаться на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и распада армии на группы измотанных одиночек, не только не имеющих никакой материальной связи с армейским целым, но допускающих даже, что и не только Ленинград, который они обороняли, но и Москва сдана немцам. И, блуждая по лесам, одна из таких группок встречает на пути обгорелого майора — «лиловые щеки в пузырях», — который не собирается заканчивать войну, сколько бы территории ни захватили немцы. Никакого «мы» уже нет, но абсолютно без всякого приказа сверху майор собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там будем поглядеть. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение типа «разумное предложение», и командир гаркает: «Это не предложение, это приказ!»
Это еще и комментарий к той доктрине, что война была выиграна, благодаря заградотрядам, — что же они не остановили бегство армии на госгранице, если они так могущественны? Армия тоже вооружена, между прочим. В «Моем лейтенанте» есть еще одна сцена, демонстрирующая, насколько немыслимо запугать вооруженную массу, неделями ведущую борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых выбрался из окружения, лишь благодаря личному везению, и даже грозит: а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его застреленным вместе с напарником.
И все-таки главный удар остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.
Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок-смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете. Но младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: для кого бережешь, для немцев?! И это делает не дикарь, не варвар — еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.
Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими культурными потерями. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!». Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее страстной части народа — той, на которую власть и опиралась.
Чуть ли не впервые в нашей военной прозе в «Моем лейтенанте» звучит и мотив «потерянного поколения». Звучит, если так можно выразиться, наизнанку по отношению к Ремарку. Как жить дальше, если война оказалась кровавой бессмыслицей, спрашивают себя герои Ремарка. Как жить дальше, если главное дело жизни уже исполнено, спрашивает себя герой Гранина. И начинает работать спустя рукава, пускаться в загулы, не проявляя щепетильности в выборе собутыльников и партнерш, так что верно ждавшая его жена в конце концов упрекает его, что он и с ней обращается, как с армейской б****ю. И все-таки ее терпение и преданность берут верх — недаром она так верила в любовь, как другие верят в Бога.
Книга написана с редкой личной откровенностью, но Гранин не был бы Граниным, если бы его голос в чем-то очень важном не был эхом русского народа. Его простодушный доверчивый герой произносит пророческие слова: «Мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было красивым и героическим».
И это после изображенных без всяких прикрас ужасов и безобразий…
Для истории грандиозность — грандиозность подвигов и грандиозность ужасов привлекательнее, чем умеренное и аккуратное процветание. Разумеется, я имею в виду не историю научную, озабоченную тем, как было «на самом деле» (если бы даже нам каким-то чудом сделались в точности известны поступки исторических личностей, для толкования их мотивов все равно сохранился бы полный произвол), — я имею в виду историю воодушевляющую, которая только и может сохраниться в общественной памяти. Поскольку главная функция человеческой психики — самооборона, выстраивание картины мира, в которой и личность, и народ предстают себе красивыми и значительными.
А потому сегодняшняя ностальгия по прошлому, разумеется же, вовсе не тоска по тирании (такое просто невозможно!), но лишь тоска по величию, тоска по участию в истории. Гранин это показал точно и аскетично, не впадая в пафос и не форсируя голос.
Гранин до последней минуты, что называется, жил жизнью страны, он никогда не заводил разговоров о старости, о здоровье, о неотвратимо приближающейся смерти, — как-то сказал о смерти: ну ее в … — далее последовало вполне солдатское словцо. Он размышлял только о том, что будет с Россией, об участи человека-творца в его борьбе с человеком-прагматиком. И если мы хотим продолжать дело Гранина, мы должны находить и выносить в центр общественного внимания все новые и новые образцы для подражания, как это проделал Гранин с Любищевым и Тимофеевым-Ресовским.
Яков Гордин:

Вы совершенно справедливо сосредоточились на "Моем лейтенанте". Да, это, быть может, лучшая книга Гранина и много говорящая о позднем, решительно преодолевшем себя Гранине, преодолевшем себя такого, каким он был до "Блокадной книги". И Вы абсолютно правы, когда говорите, что он первый заговорил о "потерянном поколении", послевоенном синдроме, этом тяжком похмелье. О неизбежности и благодетельности войн для здорового развития человечества написано немало. В войне, ее героике и жертвенности, видится высокий смысл. Не будем сейчас обсуждать этот психологический феномен. Вы приводите соответствующую фразу Даниила Александровича, вернее, его лейтенанта: "Мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было красивым и героическим". Думаю, что для лейтенанта оно и казалось таковым, поскольку напоминало ему о том, что он выжил, преодолел, победил. Но, уверяю Вас, Саша, если бы мы спросили Даниила Александровича - как он относится к повторяемой ныне залихватской фразе: "Если надо – повторим!", то он реагировал бы вполне определенно. Для Гранина "Последней тетради", сказавшего "с последней прямотой" все, что он думал о жизни, война — прежде всего трагедия, замешенная на тяжких нравственных ошибках. Если Вы сопоставите то, что в конце жизни сказал о войне солдат-окопник, изведавший все, что подносит война, вплоть до тяжкого ранения, Виктор Астафьев, и то, что в конце жизни писал о войне – не в художественной прозе, а в безоглядной дневниковой записи Гранин, изведавший стыд и ужас первых месяцев под Ленинградом, то увидите, что они в своих оценках совпадают почти буквально.
Астафьев:"...Вместо победного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения...". И далее еще более жестокие слова.
Гранин в "Последней тетради": "Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, немыслимая цена... Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожными перед полями, заваленными трупами".
Разумеется, и Астафьев, и Гранин знают, на чьей стороне была справедливость. Но они подходят к оценке войны с точки зрения совести и вины перед жертвами.
Гранин пишет: "Если забыть, что было со страной, что творилось с людьми – значит утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной...".
Вы, Саша, смотрите – в отличие, кстати, от Гранина, - на жизнь с высоты своей стройной концепции – "Для истории грандиозность подвигов и грандиозность ужасов привлекательнее, чем умеренное и аккуратное процветание ... Я имею ввиду историю воодушевляющую, которая только и может сохраниться в общественной памяти". Простите, дорогой друг, в большом числе воспоминаний честных фронтовиков Вы найдете и примеры мужества, и стоицизма, но уж никак не "воодушевляющие" призывы повторить "грандиозные подвиги и ужасы" в пику унылой мирной жизни. И Гранин тут Вам не опора. Официальная история войны полна "воодушевления", а Гранин называет Сталина упырем, того Сталина из-за невежественных - вопреки мнению Генштаба - приказов первых месяцев войны гибли сотни тысяч наших солдат. Каждый, кто знаком с реальной, а не "воодушевляющей" историей войны назовет Вам конкретные примеры.
Я, хорошо Вас зная и уважая, не сомневаюсь в Вашем человеческом гуманизме, но как строитель концепций Вы странным образом забываете о конкретном живом человеке. А Гранин "Последней тетради" только о нем и думает.
Для Гранина блокада и война - великие и страшные уроки, память о войне - энергия прозрения, понимание, что мерило человеческих поступков любого уровня - в конечном смысле - совесть.
Разумеется, для зрелого Гранина война - не единственное пространство извлечения уроков.
Параллельно с работой над блокадным материалом Гранин находит нового для себя героя. И это отнюдь не примерный советский ученый. Герой "Этой странной жизни" крупный ученый-биолог, оригинальный мыслитель Любищев, категорически не вписывается в мир "Искателей", "Иду на грозу" и вообще произведений этого типа. Это своего рода мятежник, диссидент, весьма критически относящийся к советской реальности. Я знаю тех, кто консультировал Даниила Александровича и снабжал его материалами в этот период. Это были ученые, но отнюдь не типа Лобанова, при всех его достоинствах. Это были отнюдь не правоверные советские граждане. А Любищев не только боролся с лысенковщиной, он и своей философией противостоял советскому официозу. Отсюда был прямой путь к "Зубру", большому ученому Тимофееву-Ресовскому с его драматической и необыкновенной судьбой.
Если мир "инженерных романов" Гранина никак не корреспондировал с "последней прямотой" "Последней тетради", то истории Любищева, "Зубра" , "Блокадной книги", "Моего лейтенанта" - это общие миры.
Много лет Гранин шел к себе, к внутренней цельности. И пришел к ней отнюдь не легким путем.
Я совершенно согласен с Вами, Саша, когда Вы пишете, что если мы хотим продолжить дело Гранина, то "должны находить и выносить в центр общественного внимания все новые и новые образцы для подражания". Но я считаю, что замечательный пример для подражания являет нам сам Гранин, проделавший долгий и нелегкий путь к совести, как мерилу всех поступков, жестко и прямо сказавший о грехах, которые мучают его неотступно, и показавший пример безжалостной к себе и реальности прямоты и отринувший успокоительные иллюзии. Это пример духовного мужества. На мой взгляд, главный пример в нашей жизни.
Александр Мелихов:
Дорогой Яша, мне совершенно не о чем с Вами спорить: когда я говорю о воодушевляющей истории, я имею в виду мифологию, пропускающую в свое пространство исторические факты очень избирательно. И что бы ни писали честные историки и мемуаристы, это останется в истории академической, но в общественное сознание попадет лишь в контексте другой, альтернативной мифологии. Борьба за историческую память не может быть борьбой правды и лжи, но только борьбой мифов. И миф гранинского лейтенанта, я думаю, окажется сильнее не потому, что лично я отнесся к нему недостаточно критично, а потому, что люди хотят жить в красивом, воодушевляющем мире, и с этим поделать ничего нельзя. Люди готовы принять историю как трагедию, но — как красивую, а не безобразную трагедию, возвышающую, а не унижающую.
К счастью, легендарная история создается лишь для того, чтобы примириться с непоправимым, творить новые ужасы она может подтолкнуть разве что совершенных дураков. И те бахвалы, которые возглашают «Если надо, повторим», вполне убеждены, что им повторять ничего не придется.
А вот Гранин умел слышать оба эти запроса — и запрос на воодушевление, и запрос на горькую правду.