
Текст: Александр Чанцев
Фрагмент и обложка книги предоставлены издательством
Фото: wikipedia.org
Борхес говорил, что все мировые сюжеты можно свести к четырем. Но есть, возможно, и другая классификация: написанное с любовью и без. Посмертная книга критика, переводчика, литератора широкого профиля Виктора Топорова – точно из последних. Написанных с любовью, страстью, радостью (отличная книга!), обидой (издали слишком поздно, вот в свое время бы…) и да, желчью по отношению ко многим известным коллегам (такой уж был человек – да и коллеги по литературному цеху отнюдь не всегда ангелы, что уж там).

В книге собраны его предисловия, колонки и рецензии. Издатели стремились, по их словам, к всеохватности, но она невозможна, и поэтому сделали акцент на тех текстах, что не найти в Сети – а кто сейчас пойдет в библиотеки листать подшивки… Итого – получилось своего рода избранное, о поэзии и прозе, об отдельных авторах или явлениях, как, например, «Заметки о молодой поэзии ГДР». Последняя обзорная статья напомнила мне, кстати, тоже недавно изданные тексты Евгения Головина. Собственно, это и было стратегией в те советские глухие годы – не только заработать на хлеб, но и в виде хотя бы внутренних издательских рецензий или «осуждающих» статей показать нашим читателям, что там вообще происходит, что пишут на Западе из того, что у нас очень вряд ли опубликуют.
Если можно еще как-то дальше квалифицировать, то лучшее здесь у Топорова, пожалуй, – это довольно большие обзорные статьи о Бенне, Одене, Фросте, Плат (позволю здесь поправить себе въедливого автора – все же вторая «т» в ее фамилии лишняя). И не столь уж велики эти тексты, но – объемны. Объемны пониманием, прочувствованием. «Этот (Бенна. – А .Ч.) нигилизм имеет позитивную окраску, из него вытекают длительность и благородство тем и смыслов, которые в противоположном случае не имели бы права на мало-мальскую протяженность и продолжительность в бренном мире». И знанием – говоря о немецкой литературе прежде всего, Топоров глубоко уходит в тонкости перевода, знает замечательно, что писали об этой литературе немецкоязычные писатели и критики («Свою статью о другом замечательном австрийском писателе Карле Краусе (сатирике похлеще, чем Саша Черный) Канетти назвал «Школа сопротивления». Еще более точную формулу нашел живущий в Швеции немецкий прозаик и драматург Петер Вайс: «Эстетика сопротивления»…»). А еще собранные тексты объемны диалогом: Топоров не только активно сравнивает работы западных писателей с продукцией отечественного производителя, но и привлекает кино и то, что на языке штампов называется «широким культурным контекстом».
Но еще о понимании: с этим у Виктора Леонидовича лучше всего. Ибо и фигуры довольно непростые – ушедшие из фашизма в сопротивление ему Бенн и Юнгер, из модернизма и Америки переселившийся в католичество и Англию Элиот, самоубийцы Мисима и (Топоров приводит версию про уморение себя голодом и букетом неврозов) Кафка, из нынешних Джонатан Литтелл (а вот здесь Топоров теряет в транскрипции одну из двойных согласных), Кормак Маккарти, Умберто Эко, «не сыгравший» у нас (но очень интересный!) Уокер Перси… Ладно, про Литтелла он пишет мало, это уже рецензия, еще и с посылом капслоком «не читайте!», но вот про Бенна, Плат, Фроста – это действительно эссе как оно и должно быть, объемное, стереоскопическое сочетание очерка творчества, жизни, стратегий, чаяний, удач и крушений. Про Юнгера и Мисиму же – это почти крик: так жаль, что так поздно они к нам пришли, но вот первый перевод, его нельзя пропустить ни за что!
И, конечно, лихо очень Топоров пишет. Литтелла, Эко (переоцененного у нас, мне тоже давно кажется, ведь у нас если кто понравится, то сразу абсолютный Бог, как тот же Бродский) и отчасти Франзена размазал, в Дмитрия Быкова плюнул походя, даже не повернув головы в его сторону, чью-то репутацию припечатал, чью-то пытался сделать (хотел перевести и издать сам, а не вышло, но рад чертовски чужому переводу), смачные приколы про Георге и о Кафке вспомнил, схохмил («Он раздвинул границы человеческого познания и самопознания. Хотя и ухитрился сделать это, раздвигая женские ноги» – о Г. Миллере).
Критика, рецензии – самый сиюминутный и быстро устаревающий жанр. Но, с другой стороны, помню, как откопал на чердаке на даче старые толстые журналы – какие-то весьма актуальные в перестройку прозаические имена открывать уже не хотелось, критический же раздел захватил. Так и у Топорова – даже о той же рецепции «Лолиты» на Западе и в нашей стране, казалось бы, сколько томов было написано, а все равно читаешь. Споря иногда, крякая, но – не отрываясь.
Виктор Топоров. О западной литературе: статьи, очерки. СПб.: Лимбус Пресс; Издательство К. Тублина, 2020. 458 с.
Рукописи горят, но сжигать их необязательно
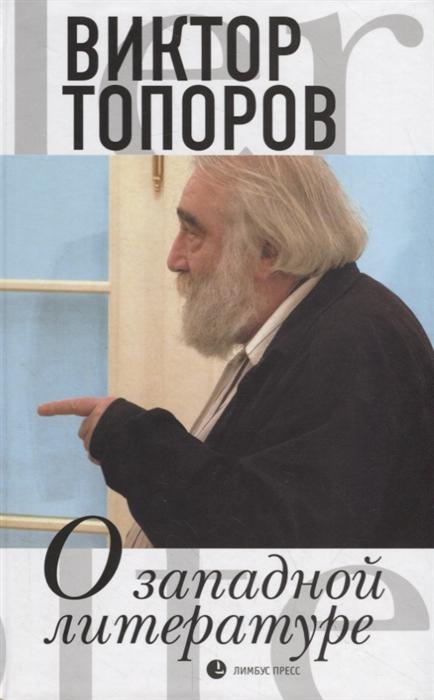
Удивительно, что эта книга – «Франц Кафка. Биография» (1937) – вышла по-русски только сейчас. Написана она Максом Бродом (1884–1968) – погодком, соучеником, другом, душеприказчиком и издателем великого писателя, а также, причем далеко не в последнюю очередь, первым и, пожалуй, наиболее точным интерпретатором его творчества.
До сих пор у нас издана была, правда, под двумя разными названиями – «О Франце Кафке» («Академический проект», 2000) и «Франц Кафка: узник абсолюта» («Центрполиграф», 2003) – и в разных переводах, лишь научная монография Брода «Франц Кафка: вера и вероучение» (1948), а также повествующая в том числе и о Кафке книга «Пражский круг» (1966; издательство имени Новикова, 2007, – прекрасно подготовленный и столь же прекрасно изданный том, который я всячески рекомендую читателю), а биографии не было. Нет по-русски и пьесы Брода о Кафке «Царство любви» (1928), но это как раз можно перетерпеть.
Здесь, в самом начале, следует отметить, что рецензируемая книга выпущена маленьким, но исключительно важным в литературной истории нашего города издательством borey art center, то есть издательским подразделением знаменитого «Борея». Здесь увидели свет первые и вторые книги многих современных писателей (прежде всего петербургских фундаменталистов) и первые переводы ряда важных, чтобы не сказать культовых произведений западных философов, психологов, культурологов, социологов и т. д. По сути дела, тем самым была с опережением на несколько лет предвосхищена деятельность столичного издательства «НЛО» (куда затем плавно перетекли многие «борейские» авторы, переводчики и редакторы), вот только у здешней «председательницы оргий» Татьяны Пономаренко нет, в отличие от ее московской конкурентки Ирины Прохоровой, брата-миллиардера – отсюда и вынужденная маломасштабность издательства. Меньше позиций в издательском плане, меньшие тиражи (так, у «Кафки» всего 500 экземпляров) и т. д. Одно время даже казалось, будто издательская деятельность «Борея» заглохла, но вот, как выяснилось, она продолжается.
Сам по себе Макс Брод интересен не только Кафкой; то есть, как в анекдоте про Чайковского, те, кто его любит, любят его не только поэтому. Оригинальный прозаик все той же «пражской школы» – его роман «Реубени, князь иудейский» выходил по-русски аж четырежды (с 1927 по 2000 год), – тонкий и чуткий критик, открывший, помимо Кафки, несколько немецких и чешских писателей: Верфеля, Гашека и малоизвестного у нас Яначека, – он сравнительно рано стал сионистом и – еще до отъезда в Палестину в 1939 году – выпустил несколько сохраняющих актуальность работ по юдаике прежде всего в ее публицистическом преломлении: «Язычество, христианство и иудаизм», «Расовая теория и иудаизм», «О бессмертии души, справедливости Божьей и новой политике» и др. Принадлежал он к религиозному крылу сионизма, был человеком глубоко верующим – и творчество своего великого друга интерпретировал именно с этих позиций, по мере сил оберегая «Процесс» и «Замок», «Исправительную колонию» и «Превращение» от популярного – особенно в период между двух мировых войн – истолкования в духе вульгарного марксизма... И все же главным, с чем Макс Брод вошел в историю, оказалось его решение как душеприказчика Кафки, нарушив волю покойного друга, не уничтожить, а, напротив, предать печати его творческое и эпистолярное наследие... Рукописи преспокойно горят, но сжигать их, как выяснилось, совершенно не обязательно. (Помнится, в советском издании собрания сочинений А. П. Чехова было опубликовано его завещание: «Все мои письма сжечь» – и буквально на соседней странице того же тома начинался раздел «Письма».)
К писательским биографиям я, за редчайшими исключениями, отношусь отрицательно: за писателя должны говорить его произведения – и только они. Как у Тарковского, когда пьяным валяющийся на лавке Феофан Грек говорит Андрею Рублеву: не на меня смотри! Вот на них смотри! И указывает на иконы и фрески... Вал писательских биографий последнего времени – это, строго говоря, вообще не литература и уж тем более не литературные биографии, а пенная, но при этом кислая муть самовыражения людей, много и плохо пишущих, спрыснутая сырой водой откровенной халтуры. В лучшем случае – добросовестная ремесленная поделка Павла Басинского или откровенная аллилуйщина от Людмилы Сараскиной и Льва Лосева, в худшем – личный пир духа какого-нибудь Дмитрия Быкова, чтобы не сказать Валерия Попова (и другого Попова, Евгения, пополам с Александром Кабаковым).
В немецкоязычной традиции различаются биография и романтизированная биография (признанный корифей второго поджанра – Стефан Цвейг). Я когда-то коллекционировал знаменитую серию писательских (и не только) биографий издательства «Ровольт» – от Мартина Лютера и маркиза де Сада до Бертольта Брехта. Впрочем, и там не обходится без закидонов и прибамбасов. Один из ровесников Кафки однажды заявил, что пишет биографию Гете. А на вопрос, как же ты ее пишешь, если ты про него ровным счетом ничего не знаешь, ответил: зато я знаю другого великого человека – Стефана Георге. Конечно, Георге – прекрасный поэт, – и молодой бахвал знал его не только в житейском, но и в библейском (точнее, в содомском) смысле, но все же где Георге, а где – великий Гете? Кстати, эту историю я вычитал как раз в «ровольтовской» биографии Георге.
Книга Макса Брода в этом смысле – отрадное исключение. Во-первых, она написана на основе многолетней дружбы, написана с должным трепетом (и без какой бы то ни было фамильярности), но не с целью воспеть, а исключительно в стремлении разобраться в противоречивой личности одержимого всевозможными неврозами и психозами писателя – причем разобраться не с фрейдистских позиций (Фрейда считал вульгаризатором психики сам Кафка), но с несомненной оглядкой на «венскую делегацию». Во-вторых, здесь щедро, десятками страниц, цитируются (и столь же подробно интерпретируются) два ключевых документа из эпистолярного наследия Кафки – «Письмо к отцу» и «Письмо к Милене». В-третьих, Кафка представлен здесь не только маниакально закомплексованным человеком, но и на свой скромный лад жизнелюбом. В-четвертых, бессобытийная жизнь писателя, его болезни (возможно, исключительно психосоматического характера), обстоятельства умирания, да и сама ранняя смерть изображены так, что они захватывают, как детектив. В-пятых, достаточно далеко в стороны разведены, но вместе с тем тактично сопоставлены и сопряжены жизнь и творчество. По сути дела, это образцовая биография.
Кафка умер сорокалетним, в 1924 году. А сорок три года спустя, по горячим следам Пражской весны, в столицу тогдашней Чехословакии приехал американский филолог-либерал Кипеш – герой и рассказчик трилогии Филипа Рота «Профессор желания», переведенной мною несколько лет назад. Специалист по творчеству Кафки и Гоголя, Кипеш и сам превращается во втором романе трилогии – но не в насекомое и не в нос, а в столь же гигантскую женскую молочную железу. А в первом романе, еще «в бытность свою человеком» (выражение самого Кафки – и Кипеша тоже), американский профессор знакомится с женщиной (теперь она, понятно, старуха), которая в молодости, наряду со многими другими клиентами, обслуживала и самого Кафку. Как так обслуживала, он же был импотентом?! Импотентом он был, только пока я не делала ему так... и так... и, если вы чуть доплатите, я покажу, как еще.
Ну, к рецензируемой книге эта история отношения не имеет (хотя как сказать), а привел я ее исключительно затем, чтобы вы не сочли данную рецензию слишком наукообразной.








