
Текст: Иван Волосюк
Можно всю жизнь пробыть филологом, а так и не догадаться, чем же литературоведение отличается от литературной критики. Позволим же себе несколько наивный взгляд и решим, что литвед имеет дело с упрочнившейся литературой. А вот литературная критика, раз она, если верить Википедии, истолковывает произведение «с точки зрения современности», да ещё и «оказывает активное влияние на литературный процесс», имеет дело с текстами актуальных, ныне живущих авторов.
То есть если я напишу статью о поэтике Тютчева или Пастернака, я как бы на два часа стану литературоведом. А если в поле моего зрения окажутся стихотворения моих друзей и коллег по «Липкам», то тут мне ничего не останется, как выступить в роли критика. (Рома Файзуллин – ужасное исключение из этого правила).
Я так нудно и пространно разграничиваю два, в общем-то, всем понятных термина, чтобы ещё раз указать на проблему статуса авторов, «застрявших» между «тем» и «этим» миром - будь я католиком, здесь возникло бы закавыченное слово «чистилище».
С точки зрения жизненного существования, некоторых авторов уже нет, их земной путь оборвался. Но вместе с тем их творчество еще не стало «литературным наследием», сверхжизненной ценностью, способной пережить прах и убежать тленья. И, в рамках нашего разграничения «профессиональных обязанностей» литературоведов и критиков, их поэзией как бы некому заниматься.
Мемориальный проект «Они ушли. Они остались» Бориса Кутенкова, Николая Милешкина, Елены Семёновой и других энтузиастов как раз призван разрешить данное противоречие.
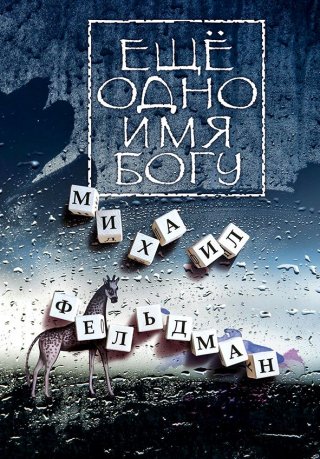
Вторая изданная в рамках проекта книга - «Ещё одно имя Богу» Михаила Фельдмана (Москва, ЛитГОСТ, 2020) - является второй попыткой собрать воедино избранные стихотворения поэта, прожившего всего 36 лет (даты жизни: 1952-1988). Через два года после гибели Фельдмана, в 1990 году, родные и близкие составили из найденных в его письменном столе стихов книжку «Миновало», изданную в Ленинграде. Но ее, конечно же, оказалось недостаточно, чтобы поэт был замечен и узнан современниками.
В то же время художественный уровень написанных им поэтических текстов позволяет говорить о них без унизительной скидки «о мертвых – либо хорошо, либо ничего».
Не надо заводить архива?
Аркадий Аверченко с присущей ему веселостью (в нашем контексте несколько неуместной) говорит о проверенной издательским опытом истине: «нет такой самой скверной, самой ледащей книжонки, которая бы не продалась в количестве «двести экземпляров».
Ленинградская книга Фельдмана, как и положено хорошей книге, была отпечатана значительно большим, хоть и не громадным тиражом – 2000 штук. Но тираж (каким бы он ни был) имеет лишь косвенное отношение к «неуслышанности» поэта.
Даже то, что сам он был абсолютно равнодушен к судьбе своих текстов и вообще мало кому их показывал, только усугубило эту «неуслышанность», но не стало её причиной.
Самым роковым оказалось обстоятельство, на которое указывает Евгений Абдуллаев в предисловии к сборнику «Ещё одно имя Богу»: «Для приверженцев традиционной рифмованной поэзии верлибры Фельдмана были слишком непривычны, для адептов «новейшей» — слишком традиционны».

Поэту действительно в конце 80-х было не по пути с теми, кто яростно «топил» за традиционную поэзию (в советском смысле этого слова) и был востребован консервативно настроенной аудиторией. А вот в стане верлибристов Фельдман не был настолько «чужим», как об этом пишет Евгений Викторович. Михаилу удалось найти общий язык с Кареном Джангировым, издававшим в конце Перестройки антологии свободного стиха (и срывавшим издательские и редакторские «джекпоты»).
Однако, как справедливо замечает в послесловии Данила Давыдов, основательная подборка Фельдмана терялась в безбрежном томе «Антологии русского верлибра».
В результате его поэзия осталась тихим делом. И, безусловно, частным, сугубо внутренним, не сообщающимся с вольной атмосферой фестивалей, литтусовок или с казенным воздухом совещаний, проводимых Союзом писателей СССР.
Фельдман, не заводивший архива и не трясшийся над рукописями, номинально выполнил главный пастернаковский «завет». Больше того, он сделал реальностью максиму Пушкина «Ты царь: живи один». Но личному «литературному успеху» Фельдмана эти две рекомендации классиков не помогли. Так же, как не помогают советы от миллионеров в духе "как стать богатым".
Тоска о Грузии – или о потерянном Рае?
Подробно пересказывать биографию Михаила Фельдмана в данном обзоре совершенно нецелесообразно. Приведу только несколько ключевых фактов. Родившийся вдали от обеих российских столиц, Фельдман учился на истфаке Ленинградского университета. В вузе, «по долгу службы», он познакомился с грузинской культурой, параллельно интересуясь польской поэзией (и не только ею, конечно же).
Поездки на Кавказ и определенная «мифологизация» Грузии сделали эту страну основным источником времени, пространства и мотивов фельдмановских стихотворений.
«Я рассказываю Грузину о Грузии», – такую «формулу» собственного творчества даёт нам автор («На берегу Невы…»).
В другом стихотворении он определяет задачу поэзии (своей и поэзии вообще) уже на онтологическом уровне:

- нужно сказать солнцу
- что оно называется
- солнцем
- птицу птицей назвать
- (Слово ловит…)
Без сомнения, это прямая отсылка к нареканию Адамом животных, к филологическому завершению творения Богом нашего мира.
Примечательно, что библейские мотивы неожиданно возникают и там, где, казалось бы, черным по белому написано о Грузии:

- Говорили они
- слова были для меня закрытыми
- как запертый сад
- С моего языка
- сочилась зависть
- Тогда один из них
- сорвал и протянул мне
- плод неизвестный
- Мякоть плода сочилась соком
- сладость и свежесть
- наполнили горло
- А ожиданье сменилось улыбкой
- произнесённой зубами языком
- словами о незнакомом вкусе
- («Грузинская речь»).
Одного этого стихотворения достаточно, чтобы показать, что Фельдман был настоящим мастером.
Закрытый сад здесь – рай. «Они» – не грузины, говорящие на незнакомом языке, а троичный Бог. О нём в книге Бытия идет речь во множественном числе. И плод здесь не абы какой – это плод с дерева познания добра и зла, попробовав который Адам «стал как один из нас». И открыл «слова о незнакомом вкусе», ранее бывшие закрытыми, божественными.
«Не напрасно, не случайно…»
Существование поэзии позволяет столетиями выражать разлитые вокруг нас смыслы и не повторять сказанного предшественниками.
Фельдману это удается гениально. В знакомом языке, в тех же словах, которые мы используем, покупая в магазине хлеб или заказывая такси, он находит потайные «ходы», «поэтические чревоточины»:
- отражение слишком
- хрупкая вещь для повседневной
- жизни…
- Сердце моё
- вдруг эхо своё потеряло…
- будто в мажоре
- смычком пытаешься
- перерезать горло…
- В мои окрестности
- неизвестная женщина
- вносит свой давний
- траур…
Фельдману удается не споткнуться, не свалиться в банальность даже там, где в строке возникает совершенно избитый, опротивевший всем образ. Скажем, Пегас.
- присудили мне кару:
- тянуть свою душу
- за двумя Пегасами сразу.
Читая Фельдмана, мы можем получить представление о картинах Пиросмани, даже если никогда их не видели, настолько зримы грузины, у которых
- ..тосты божественно вкованы в горло

А такие тексты, как стихотворение «Напрасно», на мой взгляд, являются шедеврами, закономерно возникающими в качественно плотном текстовом ряду:
- Напрасно
- осенняя ночь грозит
- поэту бессонницей
- ему без того не спится
- Напрасно старая женщина
- дверь закрывает
- Никто к ней в дом
- не ворвётся
- Напрасно я вспоминаю
- адрес забытого друга
- он уже не живёт
- в этом доме
Когда состав на скользком склоне…
Михаил Фельдман погиб в результате крушения пассажирского поезда «Аврора» летом 1988 года в Калининской области.
Во многих его стихотворениях звучит тема смерти («любимая» поэтами), но Фельдман предсказал собственную смерть с катастрофической точностью:
- последнее слово
- прямо в ночь
- под колеса вагонов
Донецкий профессор Владимир Фёдоров, соратник Вадима Кожинова и прямой последователь Михаила Бахтина, считает, что поэта убивает не внешнее, житейское обстоятельство (пуля, вылетевшая из пистолета Дантеса), а совокупность всего написанного. Эта совокупность как бы выталкивает поэта из обыденной реальности, потому что его присутствие в ней вызывает бытийный конфликт. Неизбежно приводящий к «взрыву».
Несколько десятков дошедших до нас стихотворений Фельдмана, судя по всему, обладали ценностью, не совместимой с размеренной, долгой и счастливой жизнью.
И намёк на то, что Михаил это понимал, есть в стихотворении о старом виночерпии, разливающем вино «сидя на крышке своего гроба»:
- Он зачерпывает
- еще несколько капель жизни…
Выстроим ассоциативный ряд. Виночерпий. Вино, Христос – виноградная Лоза. Причастие. Это питие есть плод истинной Лозы. Христос – Источник жизни…
Для Фельдмана, как для монаха, спящего в гробу, смерть стала чем-то естественным, тем, что уже не нужно было табуировать или отрицать:
- Такое случается с каждым:
- вечером, дверь захлопнув,
- уходишь из дома,
- чтобы никогда не возвращаться.
Последний выдох
Помнится, жители планеты Плюк галактики «Кин-дза-дза» в память об ушедших хранили воздушные шарики с их «последним выдохом».

Так и Фельдману жизнь и её завершение представляются как
- … борьба за дыхание
- надувание
- шариков праздничных.
Следует признать, что это мудрый взгляд.
В завершение отмечу, что критерий известности/неизвестности литератора - категория совершенно не оценочная. Строки «Я узнал, что у меня есть огромная семья…» знают примерно 100 миллионов человек. Но это не делает их подлинной поэзией.
Фельдмана мы читаем сейчас в узком кругу, но вряд ли он когда-нибудь расширится до миллионной аудитории. Это уже и не нужно, массовая востребованность и «всенародная любовь» не применимы ни к кому из «новых» поэтов.
И это не плохо и не хорошо. Это реальность.








