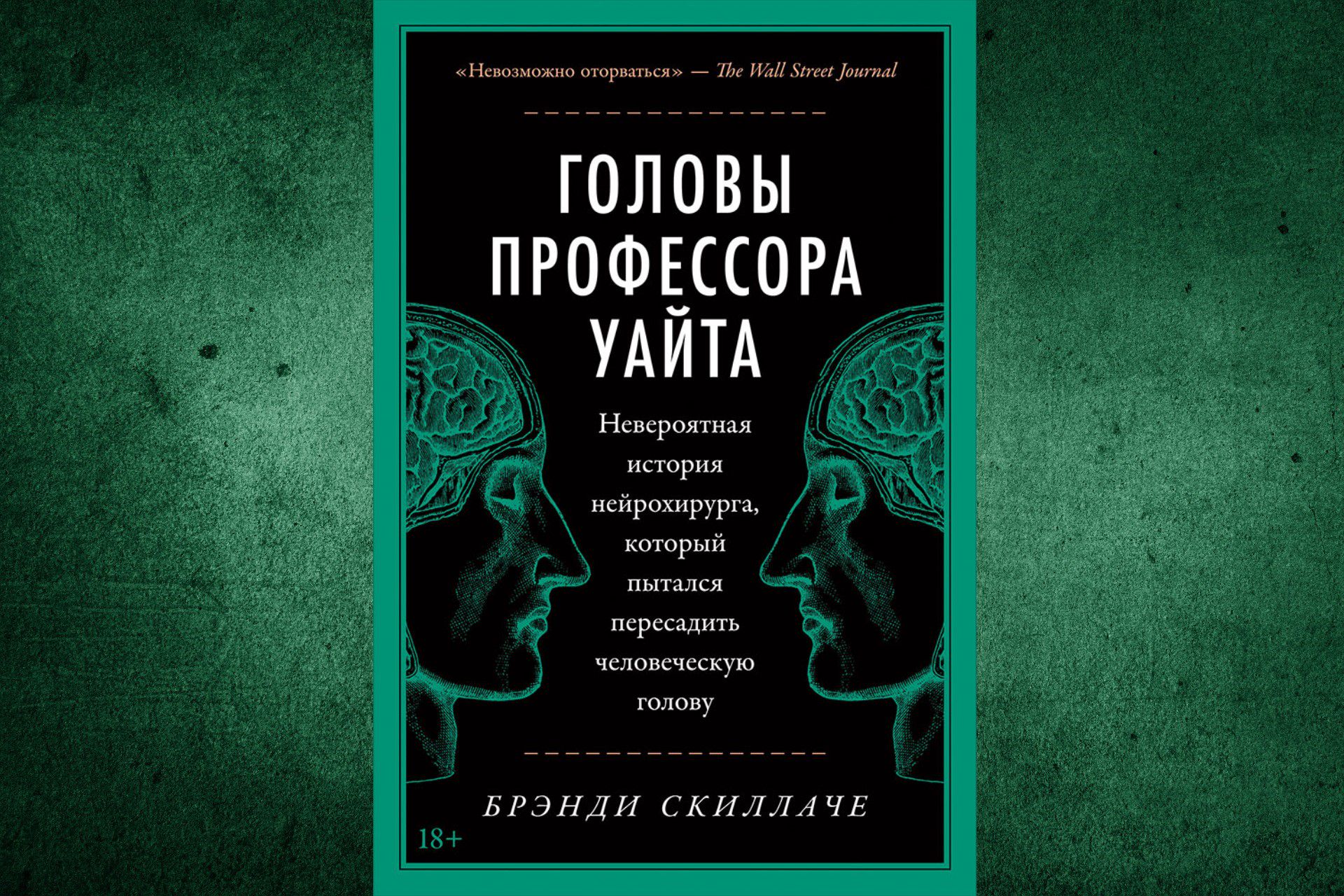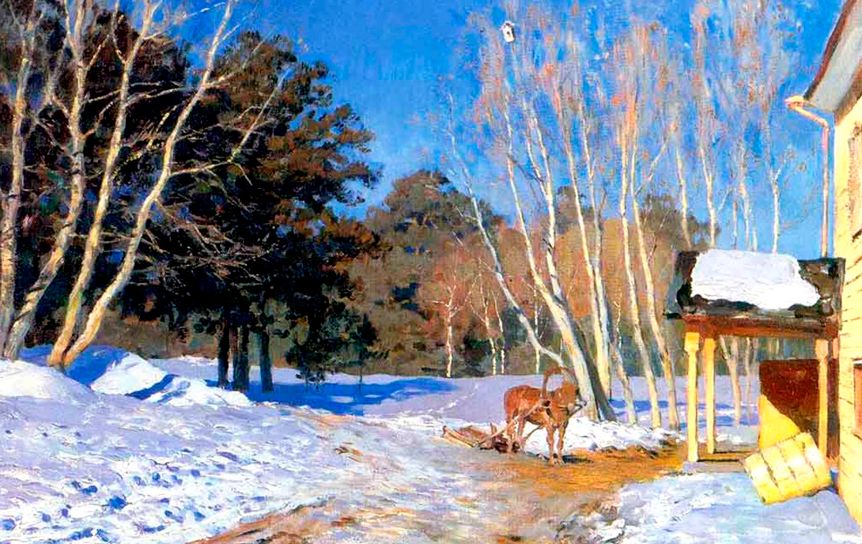Текст: Андрей Мягков
Ученые порой занимаются довольно странными вещами - но это только на первый взгляд. Мы уже рассказывали о том, как поиск ответов на глупые вроде бы вопросы в духе "всегда ли бутерброд падает маслом вниз" помогает двигать науку вперед. И хотя идею пересадить человеческую голову глупой не назовешь - скорее зловещей, - суть от этого не меняется: то, что сперва кажется обществу глупостью или дикостью, нередко помогает цивилизации сделать очередной шажок к светлому будущему.
Иллюстрирует это и история американского нейрохирурга Роберта Джозефа Уайта, который пересаживал головы животным и - несмотря на дружбу с двумя папами римскими - мечтал научиться пересаживать человеческие головы. Разумеется, не ради забавы, а чтобы спасать жизни - но общество и религиозные институты все равно приняли идею в штыки. Эта затея и сегодня кажется какой-то антиутопической бесчеловечностью - но ведь буквально 100 лет назад та же пересадка сердца казалась бредом и святотатсвом, а теперь - ну, сами знаете. Как-то так и устроен прогресс: фантазии ученых превращаются в научные факты, и следом - с некоторой задержкой - меняются общественные представления о допустимом. Вот и Уайт в итоге был номинирован на Нобелевку за метод охлаждения мозга, который и сегодня помогает проводить сложнейшие операции.
Историк медицины Брэнди Скиллаче превращает эту историю чуть ли не в роман: опираясь на протоколы лабораторных опытов, мемуары и прочие документы эпохи (время действия - вторая половина XX века), он создает по-хорошему литературную, человеческим языком написанную историю, не перегруженную научными изысканиями. Историю о том, как люди науки стремятся победить смерть - и несмотря на сопротивление и смерти, и врожденного человеческого консерватизма, добиваются на этом пути недюжинных успехов.
В мае 1958 года в Америку попала видеозапись двухголовой собаки - Цербера из обычного мастифа "соорудил" советский врач Владимир Демихов. Не будь этой видеозаписи, не съезди Уайт в Москву вопреки всем железным занавесам - и возможно, мир лишился бы важнейших открытий. И дело даже не в прямом обмене знаниями, которого по сути не вышло. Дело в синергии мыслящих людей, по большому счету в обычном общении, из которого и рождается прогресс.
Уайт с сожалением отмечает: "большевики тому виной или закрытые границы и шпиономания", но у советских ученых порой не хватает ни инструментов, ни учебников, чтобы реализовать свои идеи. "Демихов пересаживал едва ли не все органы тела, обходясь самым жалким бюджетом. <...> В том, что Россия не оказалась сокровищницей секретных медицинских достижений, вины ученых нет. Демихов — величайший талант, но ему не дали развернуться: виноваты и политическая ситуация, и его собственное неверие в западные работы об иммунном ответе. Чего еще достигли бы русские, если бы их ученые не боялись и получали достаточное финансирование?". Американец откровенно пишет о том, что ожидал встретить в СССР соперника - а встретил обаятельного, открытого человека, "с которым почти подружился". "Он должен быть признан во всем мире, - сокрушается Уайт, - а в Америке даже не знают его имени".
«Я восхищаюсь русскими», — вернувшись домой, рассказывал Уайт всем, кто готов был слушать. Рассказывал, как охотно помогали незнакомцу простые люди, с какой готовностью бросали ради него собственные дела. Он путался в местных монетах, и другие пассажиры в трамвае с радостью помогали ему выбрать мелочь, чтобы купить билет. <...> Уайт все чаще думал, что гонка между двумя странами не имеет смысла. Больше всего на свете он мечтал о свободном обмене медицинскими и общенаучными знаниями. Он хотел делиться своими открытиями, а не прятать их, хотел, чтобы гонка в операционных велась не против русских, а вместе с ними.
Ответ на то, как же этого добиться, Уайт незаметно проговаривает во время своей поездки в Москву - нужно всего лишь, чтобы "соперники" по обе стороны океана рассмотрели друг в друге человека, такого же, как они сами. И когда-нибудь это наконец случится бесповоротно - ведь так и устроен прогресс.
Брэнди Скиллаче. Головы профессора Уайта: Невероятная история нейрохирурга, который пытался пересадить человеческую голову / Пер. с англ. Н. Мезин — М.: Альпина Паблишер, 2022 — 310 с.
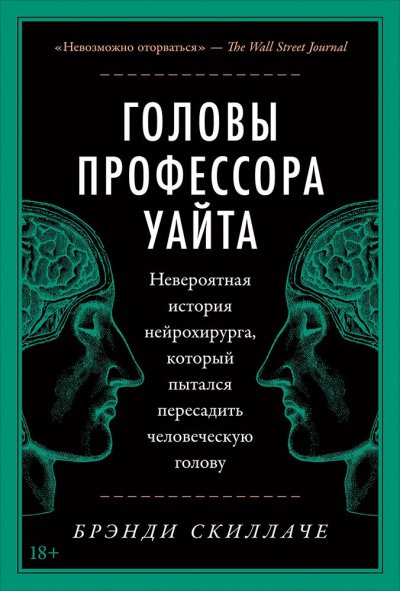
Глава 5
ОБЕЗЬЯНА ФРАНКЕНШТЕЙНА
Осенний свет сквозь матовое стекло сочится в Лабораторию изучения мозга. Солнце уже садится, хотя еще нет пяти вечера. Морис Албин и Роберт Уайт уже могут идти домой, но они ждут гостя: Ориану Фаллачи.
Эта 38-летняя итальянка успела повоевать в Сопротивлении во время Второй мировой войны, а теперь входит в немногочисленную когорту отважных военных журналисток: среди ее недавних собеседников — Генри Киссинджер, северовьетнамский генерал Во Нгуен Зяп и Индира Ганди. При этом она эффектная длинноволосая блондинка, похожая на Лорен Бэколл, и выглядит лет на десять моложе Уайта, которому 41, — и отмечает это вслух, хотя и хвалит его «крепкую» фигуру. И тут же называет Уайта «весельчаком» — по-английски jolly. Это верно, остатки волос у Уайта преждевременно поседели, но лишний вес он как раз недавно сбросил, так что это был не намек на сходство с Санта-Клаусом (jolly — привычный для него эпитет в англоязычных странах), а скорее удивление по поводу бодрого юмора хирурга. Но Фаллачи приехала не затем, чтобы состряпать хвалебный очерк: она собирается описать одну из операций по изолированию мозга, которые Уайт проводит без остановки после возвращения из Москвы в прошлом году. «Вам не жаль убивать столько обезьян?» — спрашивает Фаллачи.
«Конечно, жаль, — отвечает Уайт. — Смерть всегда расстраивает. Моя работа не в том, чтобы нести смерть. Она в том, чтобы сохранять жизнь».
Это до странности похоже на слова любимого трагического героя Уайта. Виктор Франкенштейн замечает: «Для исследования причины жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти». Чтобы замедлить увядание цветущей плоти, нужно провести немало часов в склепе, полном костей, и в анатомическом театре. А для Уайта это три сотни обезьяньих голов (замороженных или плавающих в спирту), которые хранятся в его лаборатории, столько же мышиных мозгов и некоторое число собачьих. Да, казалось бы, это очень много. Да, Уайт считает, что все эти операции были необходимы.
Он прошел немалый путь после первой попытки изолирования; операция, назначенная на восемь утра следующего дня, будет выполнена «по горячему» — то есть без охлаждения мозга, которое прежде казалось абсолютно необходимым. Уайт отточил технику реваскуляризации «по Демихову» — все делается крайне быстро, работа изолированного мозга поддерживается при его естественной температуре только за счет скорости и безупречной точности. Поймет ли это Фаллачи? Возможно, да, возможно, нет. Уайт ведет журналистку в помещение, где содержатся его маленькие «пациенты»: в чистоте и сытости, под присмотром зоотехников.
Самец обезьяны, выбранный для утренней операции, обедает апельсином, бананом и брикетами витаминизированного корма. Албин и штатные ветеринары тщательно осматривают его, убеждаясь, что животное абсолютно здорово. Фаллачи спрашивает кличку обезьяны, но оказывается, что та безымянна. Можно ли дать ей имя? Албин не видит препятствий, и журналистка, приняв подопытного за самку из-за необычно малого размера, нарекает его Либби. Покончив с представлениями, хирурги запирают лабораторию на ночь, оставив одного техника на дежурстве. Операция начнется утром, ранним и солнечным.
Пожелав Фаллачи доброй ночи, Уайт отправляется домой, успев к позднему ужину. Появление в лаборатории журналистки не всем пришлось по душе, особенно среди самых консервативных членов команды, но на сей раз идея принадлежала даже не Уайту. Фаллачи связалась с ним по университетским каналам: он подумал было, что это студентка, готовит научный доклад. Хотя Уайт не скрывает, что ему льстит внимание прессы. Демихов появился в Life — а о работе Уайта расскажет Look, главный конкурент Life. О лаборатории узнают сотни тысяч. Чуть-чуть рекламы не повредит, правда?
Наутро, пока Уайт моется перед операцией, Албин анестезирует и бреет Либби. Присоединившийся к команде нейрофизиолог Лео Массопуст будет следить за электрической активностью мозга подопытного на протяжении всей операции: теперь это задача более важная, чем прежде, поскольку неохлажденный мозг нежнее и уязвимее. Уайт, сжимая в зубах трубку, входит в операционную, где непривычно людно. В последнее время в команде произошли кое-какие перемены. К Албину и Вердуре присоединились Ли Волин, физиолог-экспериментатор, Сатору Кадоя, известный новатор в области спинальной хирургии, новый ассистент Уайта Дэвид Яшон — и, наконец, пылкая итальянская журналистка. «Кофе и пончики на подходе», — объявляет Уайт. Через мгновение их вносит секретарша по имени Пэтти — в тот самый момент, когда Албин вводит трубку в бедренную артерию обезьяны. Уайт поверх кружки вглядывается в Фаллачи. «Мозг обезьяны не так уж отличается от человеческого», — поясняет он. Журналистка записывает. «Процедура изолирования человеческого мозга будет примерно такой же, все отличие в размере». Фаллачи фиксирует и это. Тут Албин подает знак, что все готово, и Уайт занимает место у стола, целиком переключаясь на работу. Журналистка становится для него частью фона, Уайт едва ли помнит о ней, занятый тем, что умеет лучше всего: курит, отпускает шутки и обсуждает новости, безошибочно и быстро выполняя манипуляции. Фаллачи позже сравнит его руки с пальцами пианиста и ладонями священника, опишет их движение как безукоризненный танец, полностью независимый от беззаботной болтовни доктора. Она не знала Уайта, как его знал Албин. Бригада понимает, что каждый мускул в теле главного хирурга сейчас горит огнем: работа изматывающая и к тому же жаркая, поскольку врачи используют прижигающие лезвия, которые режут и одновременно останавливают кровь, буквально «запекая» ткань на месте разреза. Очки Уайта запотевают, но он не останавливается, пока череп обезьяны окончательно не очищен от плоти. Фаллачи подходит ближе.
«Вы скажете, что она жива?» — спрашивает журналистка, указывая на жуткое с виду, наполовину скелетированное существо. Уайт изучает мониторы. Давление, температура, энцефалограмма — надо следить за всем. «А разве нет?» — резко бросает он. Не время для разговоров. Еще предстоит самое сложное. Кровь, питающая мозг, поступает по четырем крупным сосудам: внутренним сонным артериям (правой и левой) и позвоночным артериям. Без помощи переохлаждения Уайту придется менее чем за три минуты лигировать (то есть перевязать) артерии, перерезать и вставить в T-образную канюлю, но при этом успеть перевязать, обрезать и соединить с канюлей сосуды большей обезьяны, восстанавливая кровоток. Это главный «сюжет», и Уайт хотел бы донести это до журналистки. Он дает знак Фаллачи следовать за ним, пока Албин вводит очередную дозу анестетика, чтобы обезьяна не пришла в себя. «Вам нужно это уяснить», — говорит Уайт, протирая очки. Уяснить, что сенсация не в общей картине, а в том почти незаметном шажке, который сейчас готовится сделать операционная бригада. Речь не об организмах, а исключительно о мозге. Живом мозге. Уайт дает сигнал, что все готово для обезьяныдонора. Пора заняться настоящим делом.
Макак-донор напугал Фаллачи: во всяком случае, она сказала, что он «страшный». Неудивительно: покрытый шрамами, агрессивный, он не ладил с другими обезьянами, кусался, царапался. С людьми он и вовсе не церемонился. Едва донор погружается в наркотический сон, врачи переворачивают реципиента Либби на живот. Уайт склоняется над меньшей обезьяной, готовый приступить к делу и заняться ее артериями. Массопуст подтвердил, что показатели в норме, Албин кивнул. Они делают это не в первый раз. Больше сотни операций закончились неудачей, но вдвое чаще хирургов ждал успех. Однако сегодняшнему провалу, если он произойдет, суждено стать публичным.
Атмосфера наэлектризована, будто в комнате проходят высоковольтные провода; Уайт откладывает трубку, и все умолкают. Фаллачи сейчас увидит другую сторону хирурга Уайта — поразительно сосредоточенного человека, знающего, что в вопросе жизни и смерти счет идет на секунды. Орудуя изогнутой иглой, доктор подцепляет и перевязывает четыре артерии, после чего освобождает голову от всего остального. Теперь лигировать реципиента, подключить T-образную канюлю, лигировать донора. «Открывайте канал», — командует Уайт. Кровь большей обезьяны поступает в систему, и Уайт перерезает последнюю связь между мозгом меньшей обезьяны и ее телом. Все взгляды прикованы к мониторам. Монитор пищит. Но затем по нему снова бежит волна — даже более интенсивная, чем прежде. Уайт облегченно вздыхает. Кровообращение мозга восстановлено — при нормальной температуре без малейшего нарушения его функций. Дальнейшую работу он выполняет без напряжения, удаляет костную оболочку, высвобождая яркооранжевый клубень мозга. Уайт показывает его журналистке. Этот мозг — для газет.
До девяти вечера Уайт поддерживает жизнь в изолированном мозге, проводит различные анализы, замеряет скорость метаболизма, давление, реакцию на раздражители. Его коллеги привалились к столам, подкрепляют силы кофе и уже засохшими пончиками. Все устали. Всем нужно нормально поесть и поспать.
Наконец Уайт перекрывает кровоток, и энцефалограмма обезьяньего мозга медленно превращается в ровную линию, пиков больше нет. «Можете взять мозг для фото?» — спрашивает Фаллачи, и Уайт послушно берет его в ладони. Фаллачи спрашивает, можно ли признать его уже просто комком ткани, но Уайт качает головой. «Все не так просто. Здесь были духи, а теперь это пустой флакон, — поясняет он. — Но аромат еще остался». Удачное завершение, думает он. Но ему еще предстоит другая работа. Кроме того, близится субботний день — его он всегда посвящает ораве детей: они штурмом берут продовольственные магазины и закупают в мясной лавке телячьи мозги.
Ориана Фаллачи привыкла, что собеседник сам заканчивает интервью. И научилась спокойно это игнорировать. «Доктор Уайт, — спрашивает она, и тон ее кажется чуть более жестким, чем прежде, — вы не боитесь, что ваша работа может иметь непредсказуемые последствия?» Уайт усмехается. «Дивный новый мир» Хаксли? Вопрос кажется наивным, он никак не вяжется с тем, что Уайт показал журналистке: ни с тщательной подготовкой, ни с продуманными методиками. Естественно, он размышлял о возможностях, которые открывает его работа: он вообще не думает ни о чем другом. Главная цель — спасение жизней. Разве он об этом не сказал?
Наука всегда помнит об опасных последствиях, подчеркивает Уайт: «Но если мы получаем ту или иную возможность, это еще не значит, что мы ею воспользуемся». Именно в этом и состоит смысл научной этики, поясняет он. В конце концов, все, что сегодня видела журналистка, делается для того, чтобы научиться сохранять мозг (обезьяний) живым и изучать его функционирование отдельно от организма, а не для того, чтобы «примерить» подобную операцию на людей. «Ага, но вы говорили, что это можно проделать и на людях», — напоминает Фаллачи. Похоже, он проболтался. «Да, мы сегодня могли бы сохранить живым мозг Эйнштейна», — соглашается Уайт. Но это не значит, что его необходимо было сохранять, и не значит, что сам Уайт счел бы это нужным. Однако Фаллачи не сдается, она хочет знать: был бы этот мозг все еще Эйнштейном? И что такое вообще мозг без тела?
Фаллачи удается дожать Уайта, втянуть в обсуждение одной из его любимых тем, на которую он рассуждает охотнее всего: что может сознание без тела. Уайт заверяет журналистку: «Когда я отделяю мозг от тела, ум и личность сохраняются в полном объеме». Он заходит еще дальше: по его словам, личность дается при рождении и присутствует уже в эмбрионе. Это обнажает его католические предубеждения и несколько противоречит современным представлениям о природе, о воспитании, о непрерывном развитии нейронных связей в мозге на протяжении жизни. На этом Уайт не останавливается. Он заявляет, что мозг без тела, не имея почти никаких отвлекающих факторов, мог бы работать как суперкомпьютер. Что математические проблемы, что этические — их намного проще и быстрее разрешил бы мозг, отключенный от внешних раздражителей. Можно ли спасать людей, пересаживая мозг? Нет, поскольку соединять нервы мы пока не умеем. А если пересаживать голову целиком? Да, в теории, хотя Уайт признает, что даже сам поеживается, представляя, как встречает людей с головами от других тел. И пока мы к этому не готовы: нам еще нужно практиковаться на собаках и обезьянах. Опыты на людях только предстоят: после того, как у нас будет возможность рассмотреть ситуацию с этической и религиозной точки зрения. Со своей типичной полуулыбкой Фаллачи спрашивает: «То есть нам нужно решить именно моральную проблему?»
Моральная проблема. Дождавшись автобуса, Уайт плюхается на ближайшее к входу сиденье. «Может, я и перегнул палку», — обдумывает он состоявшийся разговор. Теология опирается на давно устаревшие научные теории, это признает даже он, истый католик. Столетиями врачи утверждали, что смерть наступает, когда останавливается сердце и прекращается дыхание. Но они ошибались. Смерть наступает тремя–пятью минутами позже, когда умирает мозг. Иногда смерть мозга опережает смерть организма — например, если жизнь тела поддерживается аппаратами. Сквозь матовое стекло Уайт смотрел на плывущие мимо унылые улицы. В эти самые минуты у него в больнице девушка, красавица и умница, пианистка всего 18 лет от роду, — погибает без донорской почки. А Уайту нечего ей предложить. Он не мог бы взять почку у коматозного или парализованного донора с той же группой крови, даже если бы нашел такого.
Это он и сообщил Фаллачи. Ни законы, ни религия не поспевают за развитием науки. И тогда она задала вопрос, больше прочих смутивший Уайта: «То есть, по-вашему, само понятие жизни нужно пересмотреть?»
Да, ответил Уайт. Решительно и безоговорочно да. Смерть — это умерший мозг. А работающий мозг жив. Как выразиться еще яснее? Если отрезать человеку руки и ноги, язык — именно то, что он сделал с Либби, — даже тогда, с незрячими глазами, новыми легкими и новым сердцем, он останется той же личностью. «Но, — продолжил Уайт, — если я отберу ваш мозг, от вас не останется ничего». Он говорил это прежде Морису Албину, Хавьеру Вердуре, своей жене Патрисии; он заводил этот разговор даже с теологами и со своим приходским священником церкви Пресвятой Девы. «Что такое душа?» — этот вопрос Уайт задает себе всякий раз, когда держит на ладонях бесформенный комок студня и нервов, такой неприглядный. Совсем не об этом думали русские, когда сравнивали мозг гения и дурака. Под микроскопом все ткани одинаковы — и все-таки там живет что-то особенное, уникальное и странное, необузданное, индивидуальное. «Душа, — ответил Уайт Ориане Фаллачи, — живет в мозге».
И Фаллачи задала последний, бронебойный вопрос: «Значит ли это, что у обезьяны тоже есть душа, как и у нас с вами?»
«Нет», — ответил Уайт. У обезьяны — нет. И на этом они закончили беседу.
На своей остановке Уайт встал и двинулся по проходу к дверям. «Доброй ночи, док», — приветливо кивнул ему водитель.
«Доброй ночи», — улыбнулся в ответ Уайт. В конце концов, о чем тут волноваться? У красивой молодой женщины язык подвешен не хуже, чем у него, и это ему даже понравилось. Придется попробовать на вкус настоящую известность, вот и все. Какой в этом вред? Уайт заходит домой и собирается ужинать, как и прошлым вечером. А красивая молодая женщина, как и прошлым вечером, заходит в гостиничный номер и садится писать статью.