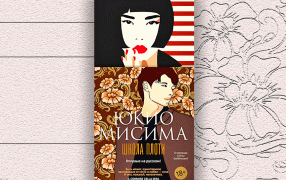Текст: Антон Осанов
Анна Матвеева, «Каждые сто лет» — М.: АСТ, РЕШ, 2022
«Каждые сто лет» — это хорошо знакомая дневниковая проза, с поколенческой перекличкой, параллелями, сложным ХХ веком и кровнородственным детективом, когда потомки обнаруживают себя в предках. В общем, понятный премиальный набор, трафарет. Его всегда можно приложить к чистому листу, и всегда получится.
Вот и опять вышло старательно, аудиторно — и так, что через неделю после прочтения ходишь с совершенно чистой головой. В ней сперва хотели остаться маньяк, инцест, шизофрения, измены и суицид, но, по счастью, сие коммунальное общежитие расселилось как-то само собой по причине полной бессодержательности.
Вот почему разговор о романе Матвеевой не хочется начинать с вводной. Два поколенческих дневника, отмеряющих чайной ложкой женское горюшко, не есть то, ради чего стоило напрессовать почти восемьсот страниц. При обилии персонажей, эпох и самой смелой географии роман оказался совершенно пустопорожним: не то чтобы осушённым, но даже не налитым. Его нарочно разбавили ненужными страстями, будто постеснялись жизни двух, в общем-то, приличных девиц, тихая суета которых могла бы раскрыть своё время не хуже самой прогрессивной перверсии. Но чувствовалось — если избавиться от кровушки, текст получится совсем уж серым. Так что решили перчить. В том числе языком. Даже обидно, что стоящий язык был израсходован впустую, будто его совсем не жаль.

Сама сюжетная параллель Ксаны и Ксении напоминает утомительную генеалогическую копку. Ни к чему не обязывающие имена и необязательные родственники настолько плотно обсидели роман, что нет ничего удивительного в том, что брат с сестрой оказываются в одной и той же постели. Весь этот семейный подряд сколочен ради излишнего драматизма, для каких-то дореволюционных кружев. Он достоверно смотрится по отдельности, но при трении ничего не электризует и уж тем более не мурашит. Линия Ксенички («бабушки») сильно проигрывает линии Ксаны («внучки»), так как читать очищенный от исторических событий перелом XIX-XX веков — всё равно что вкушать пищу без соли. Да, это всё оговаривается — отсутствием дневников, «касательным» замыслом книги — но в том-то и дело, что мощь этих событий, мощь голода, мощь войны и мощь революции можно было передать через хрупкие, посюсторонние вещи, через самые трепетные и мещанские занавесочки. И это выявило бы тяжкую женскую долю чётче, чем любая жестокость. И запомнилось бы, кстати, тоже.
Вот как с Деникиным. Или с Дрейфусом. Хорошо же.
А так роман стал заложником благородной авторской устремлённости запечатлеть свою бабушку. Это достойно похвалы, но текст от этого лишь проиграл, сделался нарочитым и искусственным. Всё-таки расстояние в полтора века очень трудно заполнить именно интимными переживаниями. Два разделённых дневника зря стягиваются косыми стежками травм. Это действительно общие, вечные темы, но явленные вот так голо, без исторической специфики, они кажутся невыразительными, пережитыми сразу всеми и потому — не цепляющими.
Дневник — это запись только что пережитого, ещё не отдуманного, не ушедшего из крови. Это бурное настоящее чувство, прерывистое и запыхавшееся, когда пишут по неостывшим горячим следам. «Я вся дрожу, нужно заснуть». Но роман выстроен как аптечно отмеренное, постепенное, широкополосное произведение, а не случайный эмоциональный дневник. Главы его чересчур объёмны, особенно для юных рук. Так, посещение парка Маяковского описывается перед сном на целых семь тысяч знаков, но это колоссальный объём для маленькой девочки. Не говоря уже о структурной сложности сочинённого! Конечно, читать истинно дневниковые записи про «я покушал» было бы скучно, но никакого (даже стилизованного) дневника в романе Матвеевой нет. Есть модная маскировка, оммаж популярному методу. Обыкновенное третье лицо справилось бы со всеми художественными задачами куда лучше. Тем более писали всё равно мемуар.
По логике вещей роман нужно было соткать как лоскутное одеяло: с заплатками, провалами, несовпадениями, торчащими нитками, а он выполнен стык в стык, будто кафель клали. Ксана забывает портфель, Ксения забывает дневник — рифмы судьбы, поэтика!
Вторая осечка в стиле.
Роман с первых строк говорит из отличного языка, что не сочетается с выбранной формой. Уровень письма слишком высок для неё. Вот, практически сразу, десятилетней простой рукой:
Платье у Были — в крупную мутную клетку. Меня от этой клетки подташнивает. Минутная стрелка настенных часов халтурит. А часовая вообще не работает.
Великолепное, неизбитое виденье клетки как «мутной», и сразу же подташнивающее продолжение. Ещё минутная стрелка халтурит. И даже «не работает» в ритм, в секцию. Это сильный язык, где «всхлипывают странички», лифт ходит почти с «человеческими стонами», а «мещаночка» кажется привлекательным словом. Язык упрощён, но не в детское понимание, а в понимание детей со стороны взрослого, и это настолько на виду, что вываливается из каждого абзаца. Никто не потрудился скрыть своё писательское дарование, долгий опыт сочинения опрятных текстов. Да, по сюжету Ксана талантлива — но талант этот должен быть неряшливым, необработанным. А у нас, повторюсь, трафарет.
Кроме того, в романе отсутствует стилизация. Что Ксения, что Ксана пишут одинаково, без важных различий, сразу как две старушки. Уровень их письма не меняется вместе с жизнью. Его развитие остановлено высоким языковым порогом. Скрыть это под «опрощением» не получилось. Наоборот, стало выпирать во все стороны, как в «Слове Княжны» с её бьющим «видиш» и «неприходи». Даже у «Стрима» дураки были лучше.
В совокупности это выглядит просто нелепо: псевдо-дневники, написанные псевдо-простым языком — будто то же самое нельзя было изложить иначе. Но парадокс в том, что иначе и правда было нельзя — ведь ради бабушки создано, ради подлинных её дневников. К сожалению, ими не сумели распорядиться.
Отсюда возникает ряд важных вопросов.
Почему писательское обращение к собственным корням так часто обращено ко всей России? Почему личное понимается как общее? Почему, отталкиваясь от себя, считается уместным сказать о всех? На каких основаниях автобиографические мотивы могут быть предъявлены читателю как важное художественное произведение?
Можно ответить про не закончившийся до сих пор ХХ век, про общую незажившую травму и общую тоже коросту, про разделённость полов, поколений, эпох, про давящую большую историю, где войны и эти мужчины с усами, про необходимость потайного сюжета из сбережённого бабушкина сундучка, но при всей правоте прозвучавшего, всему этому необходим талант. И он заключается не в одном лишь умении ладить слова. Необходимо что-то ещё. Редкое, неизбывное. В конце концов, сродство с чужим человеком происходит совсем на ином уровне, нежели совмещённые дневники. А для их использования недостаточно усталости от государственных нарративов.
В случае Матвеевой мы имеем дело с ещё одной качественной трафаретной историей, которая обязательно вызовет восторг соответствующей аудитории. Будет много общих восторженных слов. Но ни достойный язык, ни ходкая тема, ни правильно выбранная редакция не сообщают роману чего-то, из-за чего его стоило бы прочитать.