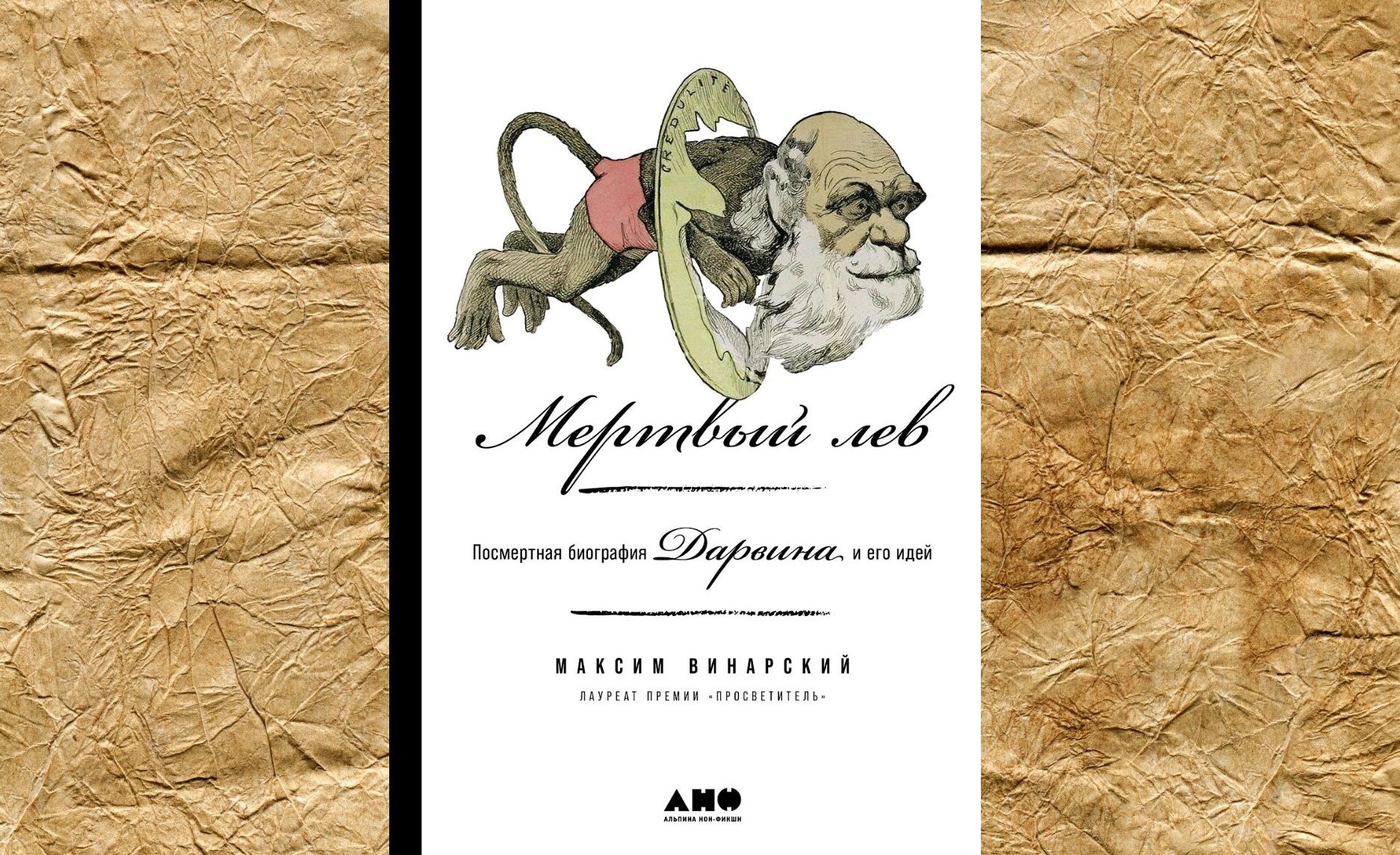Текст: Андрей Мягков
Найти человека, который не знает, кто такой Чарльз Дарвин — та еще задачка. Оно и неудивительно: его идеи и теории кардинально изменили представление человека о природе и самом себе. Однако имя гениального ученого и сегодня, спустя почти полтора века после его смерти, продолжает тревожить особо беспокойные умы — многие до сих пор не прочь попинать мертвого льва.
Этот образ и стал главной метафорой книги доктора биологических наук и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Максима Винарского: в своей книге он рассказал не столько о самом ученом, сколько о диалоге, в котором с его идеями состояли — и состоят — самые разные люди. Диалог этот по-настоящему интересен — ведь его эволюционная теория подвергалась причудливым (а порой и опасным) интерпретациям, ее использовали себе на потребу противоположные политические идеологии, а высказанные в ней идеи, несмотря ни на что, получили свое развитие в современной науке.
При этом у Винарского вышла не просто книга о биологии и истории науки: здесь много неожиданных портретов людей, так или иначе взаимодействовавших с учением Дарвина; много замечаний о сложных отношениях науки и религии; много, в конце концов, об устройстве человека и общества, по-разному раскрывавшего себя в разные моменты истории, отражаясь в зеркале дарвиновского учения. В том числе отражаясь криво и ужасно: «Виновен ли главный герой моей книги в ужасах, которые принесла миру нацистская идеология? — пишет Винарский. — Мой ответ: да, виновен — но в такой же степени, в какой Нагорная проповедь «виновна» в резне Варфоломеевской ночи. Или древнегреческий философ Демокрит, создатель первой теории атома, — в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки».
А еще эта книга написана чудо как живо, лишена ненужной зауми и подойдет каждому любознательному читателю. Чтобы проверить это утверждение, далеко ходить не надо: просто прочитайте фрагмент о том, как теорию Дарвина восприняли в Российской империи.
Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей / Максим Винарский. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 446 с.
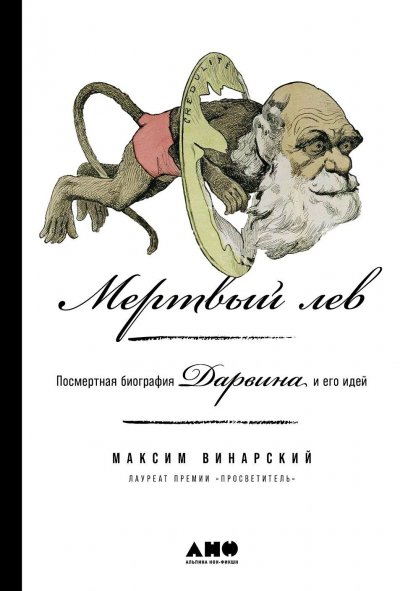
* * *
Но вернемся к Николаю Данилевскому. Не так уж он ошибался, утверждая, что западные научные теории не могут привиться в их первозданной чистоте на русской почве. Если верить мемуаристам и очевидцам событий, дарвинизм, завоевав огромную популярность в России, был принят у нас совсем по-особому, не так, как в прочих странах Европы. Мало того что воинственные радикалы, подобные Писареву, перетолковывали его и в хвост и в гриву (это случалось и в других странах), но и само восприятие нового учения приобрело какой-то религиозный, культовый характер. Стало общим местом писать о том, что русская интеллигенция увидела в нем новое Евангелие, дающее окончательный ответ на многие сложные вопросы. Среди первых высказался на эту тему Федор Достоевский в одном из выпусков своего «Дневника писателя» за 1876 г.: «То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки. На западе Дарвинова теория — гениальная гипотеза, а у нас уже давно аксиома».
Много десятилетий спустя Николай Бердяев подробно развил эту тему в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Он считал, что русская интеллигенция увидела в учении Дарвина не еще одну научную теорию, подлежащую проверке и коррекции, а абсолютную истину, которую надлежит принимать целиком, без скепсиса и сомнений. Бердяев ссылается при этом на пресловутую «русскую душу», загадочную и иррациональную, непременно требующую тотальности, законченности мировоззрения. Неважно, что подлинная наука не терпит догматизма и всегда содержит в себе много спорного, неокончательного, ожидающего подтверждения. «Русской душе» подавай только то, что объясняет весь мир целиком, отныне и на все времена. Как писал Бердяев, в интеллигентском культе Дарвина произошло «переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы». Это была та же самая религиозная вера, только «вывернутая наизнанку».
В пользу точки зрения Бердяева можно привести много исторических свидетельств. Вот что писал в своих мемуарах зоолог и эмбриолог К. Н. Давыдов:
- Необходимо отметить, что теория Дарвина особенно сильное впечатление произвела именно в России, где она нашла для себя хорошо подготовленную почву. <…> В значительной степени своей популярностью дарвинизм обязан у нас Писареву, замечательная статья которого «Прогресс в мире животных и растений» (одно из лучших общедоступных изложений учения Дарвина во всей мировой литературе) произвела большое впечатление в образованных кругах России. Нечего и говорить о рядовой молодежи, для которой эта статья являлась настоящим откровением (курсив мой. — М. В.).
Слово «откровение» взято из религиозной лексики и употреблено явно не ради красного словца, а потому, что наиболее точно отражало реальность. Характерно, что оно относится не к самому Дарвину, а к его истолкователю Писареву.
О воздействии теории Дарвина на умы молодежи говорит и куда более потрясающий документ — исповедальное письмо некоего неизвестного юноши, которое он послал Федору Достоевскому перед тем, как покончить жизнь самоубийством.
- …Дарвин, вот кто все во мне перевернул, весь строй, все мысли. Я упивался этой новой, ясной и, главное, положительно- точной картиной мира! Я сделался другим человеком. <…> Я потерял чувство (т. е. религию), но приобрел мысль и убеждения. <…> Поверите ли, я в дверях могилы — а на сердце стало тихо, мирно и ясно! В мать-природу иду. Из нее и в нее. Вот и Тайна! Не она ли?
В сознании этого и множества других молодых россиян Дарвин занял место старика Моисея, став, сам на то не претендуя, пророком новой светской религии, основанной не на чувстве, а на мысли и убеждениях. Но было ли это чисто российским явлением? Конечно же, нет. Во многих других странах молодежь, как «биологическая», так и «небиологическая», поддалась обаянию и убедительности дарвиновской теории, «открывшей глаза» и вытеснившей усвоенные в детстве ветхозаветные сказания. Впрочем, почему только молодежь? В потоке писем, хлынувшем на Дарвина после опубликования «Происхождения видов», он обнаружил письмо от ботаника и врача Френсиса Бутта, датированное 29 февраля 1860 г. Бутт родился еще в XVIII в. и был на 17 лет старше Дарвина. Он сообщал, что прочитал «Происхождение видов» два раза и будет читать его снова и снова наравне со Священным Писанием. «Я испытываю глубокое благоговение перед Авраамом и Моисеем и Иисусом Христом, но я немало преклоняюсь и перед Вами, в ком я вижу Первосвященника природы», — писал Бутт. Представьте, каким бальзамом для души Дарвина были эти строки, полученные им вскоре после ругательной рецензии в «Атенее» и язвительного письма «старого доброго Седжвика». Томас Хаксли, вспоминая о своем первом знакомстве с теорией Дарвина, сравнивал ее со вспышкой молнии, осветившей в ночи путь заблудившимся странникам. «Как чудовищно я был глуп, что сам до этого не додумался!» — сокрушался Хаксли.
То же видим и в Германии. Вот автобиографическое свидетельство Августа Вейсмана: «Эта книга [«Происхождение видов». — М. В.] явилась откровением. Я был тогда в состоянии превращения из медика в зоолога и в отношении натурфилософских взглядов представлял чистый лист бумаги. <…> Я читал эту книгу впервые в 1861 году, читал ее запоем и со все возрастающим воодушевлением, а окончив ее, стал на сторону эволюционной теории». Это подтверждают и деятели противоположного лагеря. Ханс Дриш, «могильщик дарвинизма», в 1902 г. обвинял своих коллег и вообще образованную публику в Германии в том, что они «в порыве либерализма» поддались обаянию учения Дарвина, принимая его скорее как новую религию, ответившую на все вопросы, чем как научную теорию.
Похоже, что «русская душа» все-таки ни при чем. Немцы, англичане, итальянцы, которые обладать ею не могут по определению, одинаково свидетельствуют о чувстве священного трепета, охватившем их при первом прочтении «Происхождения видов». Могу предположить, что в зарубежной Европе религиозное восприятие теории Дарвина оставалось преимущественно личным делом, индивидуальным выбором. В России же оно сделалось фактом группового сознания; любой, кто желал быть причисленным к «передовым» слоям общества, должен был принять и все его убеждения, включая дарвинизм. По словам современного исследователя, русское студенчество второй половины XIX в. «обладало какой-то стадной наклонностью рабски поклоняться всяческим авторитетам». Интеллигенция видела в дарвинизме основу новой, научной, морали, доказавшей единство человеческого рода, природное равенство всех, независимо от их расовой и национальной принадлежности. Философ Владимир Соловьев иронизировал, что русские нигилисты сделали странное умозаключение: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». Вспомните Кропоткина!
Ирония иронией, но, если взглянуть на дело непредвзято и вывести за скобки разные крайности и перегибы, случавшиеся на практике, идея представляется вполне здравой и прогрессивной. Особенно для рассматриваемой эпохи, когда расизм и неравенство (национальное, половое, экономическое) утверждались с высоких ученых кафедр как нечто раз и навсегда «научно доказанное». (В следующей главе мы поговорим об этом подробнее.)
Но в чем Бердяев точно оказался прав, так это в том, что, кроме дарвинизма, в России догматически восприняли и марксизм, так что «первые марксисты в мире были русские». Впоследствии, правда, и марксизм у нас изрядно «русифицировали», но исходное религиозное отношение к нему оставалось неизменным, поэтому к сочинениям классиков марксизма в советские времена относились примерно так же, как благоверные католики к энцикликам папы римского.
Кстати, о русских марксистах конца XIX в. Один из них в будущем сделал фантастическую карьеру, достигнув всех мыслимых в земной жизни почестей, приличествующих разве что объекту религиозного культа. Этот человек, не получивший в юности систематического образования, был всерьез объявлен «величайшим в мире ученым», «корифеем всех наук», и такие похвалы в его адрес произносили не только примитивные лизоблюды, но и президент Академии наук СССР.
Вы, вероятно, уже поняли, что речь идет об Иосифе Сталине. В 1930-е гг. в СССР были опубликованы воспоминания друга его детства, утверждавшего, что Сосо Джугашвили сделался атеистом в возрасте 13 лет после прочтения книг Дарвина. Проверить этот факт невозможно, но он вполне соответствует реалиям эпохи. (Никита Михалков в одном из своих последних фильмов, «Солнечном ударе», толсто намекает зрителю, что чтение книг Дарвина приводит незрелого юношу начала прошлого века к цареубийству, революционному террору и бог знает каким еще политическим злодеяниям.) Дарвинизм молодой семинарист Джугашвили осваивал самоучкой, что не мешало ему довольно уверенно высказываться по поводу серьезных научных вопросов, таких как происхождение человека:
- Если бы обезьяна всегда ходила на четвереньках, если бы она не разогнула спины, то потомок ее — человек — не мог бы свободно пользоваться своими легкими и голосовыми связками и, таким образом, не мог бы пользоваться речью, что в корне задержало бы развитие его сознания. Или еще: если бы обезьяна не стала на задние ноги, то потомок ее — человек — был бы вынужден всегда ходить на четвереньках, смотреть вниз и оттуда черпать свои впечатления; он не имел бы возможности смотреть вверх и вокруг себя и, следовательно, не имел бы возможности доставить своему мозгу больше впечатлений, чем их имеет четвероногое животное…
Да, это вам не искрометный стиль Дмитрия Писарева. Унылое, тягомотное рассуждение, пестрящее нескончаемыми «если бы». Ближайшая аналогия в русской литературе — «Письмо к ученому соседу», сочиненное отставным урядником Войска Донского Василием Семи-Булатовым и сохраненное для благодарных потомков Антоном Чеховым. Сравните:
- Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы напоказ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище…
Та же самая мысль, только вывернутая наизнанку.
Стилистическое сходство между писаниями Джугашвили и Семи-Булатова, возможно, не просто совпадение. По воспоминаниям брата Чехова Михаила, «Письмо» — это пародия на высокоумные рассуждения некоего «захудалого профессора», рассказывающего о своих великих открытиях. Юный Антон Чехов, еще учась в гимназии, развлекал домочадцев подобными импровизациями. Не исключено, что наставники будущего «великого гения» в тифлисской семинарии читали свои лекции примерно в том же духе. Рассказывать про «обезьяну» они, конечно, не могли, но особенности стиля от этого не меняются. Что-то в нем есть и от плохо составленной церковной проповеди, недаром же Лев Троцкий говорил, что сочинения Сталина написаны слогом «несостоявшегося сельского священника».
Над рассуждениями Сталина можно было бы просто посмеяться и забыть, но в главе 7 нам предстоит увидеть, как его, прямо скажем, дилетантские взгляды на эволюцию аукнулись в советское время страшным эхом для всей нашей науки. Пока же продолжим чтение.
- Выходит, что развитию… сознания предшествует развитие материальной стороны, развитие внешних условий: сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется материальная сторона, а затем, соответственно, изменяется сознание, идеальная сторона.
Итак, сначала меняются внешние условия, то есть среда обитания, материальные условия жизни, и только потом изменяется сознание. Это излюбленная тема марксизма с его формулой «бытие определяет сознание», но не менее типична она и для механоламаркизма, признающего ведущую роль среды обитания в эволюции организмов. На момент написания приведенных выше строк они были не более чем абстрактными, теоретическими рассуждениями. Но пройдет всего десяток-другой лет, и Сталин вместе со своими единомышленниками получит полную возможность радикально изменять «внешние условия», словно бы реализуя завет давно уже покойного Писарева: «Ломай, круши, разноси вдребезги весь ненужный старый хлам». С точки зрения многих представителей русской интеллигенции, революция 1917 г. была грандиозной катастрофой. Жизнь Русского государства превратилась в «мистерию о происхождении человека от обезьяны, страшную и невиданную миром мистерию, где на тронах сидят обезьяны, а души усопших по черным улицам вихрем носятся в красных гробах». Это слова писателя Михаила Пришвина, напечатанные в газетной заметке спустя всего несколько дней после большевистского переворота. А называлась эта заметка знаете как? «Красный гроб (Слово о том, как показала Россия, что человек действительно происходит от обезьяны)».
Советской власти Дарвин и его учение оказались очень полезны. Но это уже другая история, достойная особой главы.
Благодарю за внимание, лекция окончена.