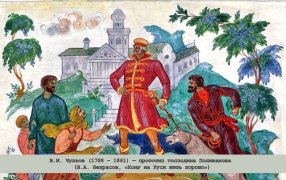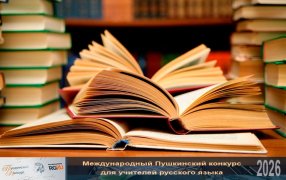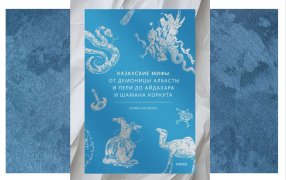Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»
А кажется, что он все еще рядом с нами, на вздыбленном коне, воспетом поэтами и художниками. Это свойство немногих исторических деятелей. И помогают им оставаться в строю не только историки, но и писатели. Культ Петра уж точно создавали именно они. И начали еще при жизни великого императора, когда Федор Журавский и Феофан Прокопович принялись воспевать его победы.
Петровская тема до сих пор на острие споров. Исторический образ великого императора, сложившийся и при его жизни, и в веках, остаётся «недорисованным портретом» – а значит, живым.
Феофан Прокопович. Ушла эпоха
До сих пор историки спорят, кто создал культ Петра Великого? Здесь много авторов. Безусловно, Феофан Прокопович – вероятно, наиболее сознательный идеолог, формировавший образ идеального, энергичного правителя, который должен был прийти на смену величественным, но инертным московским государям, которые превратились скорее в церковных предстоятелей, чем в лидером динамично развивающейся державы. Петр приметил Феофана, приблизил, возвысил его. Священник, ритор и поэт, он сопровождал царя в неудачном, но героическом Прутском походе, чему посвятил звучные стихи:
- За Могилою Рябою
- над рекою Прутовою
- было войско в страшном бою.
- В день недельный ополудны
- стался нам час велми трудный,
- пришел турчин многолюдный.
Трагедию похода он в этих стихах не передал. Но без Феофана не обойтись в разговоре о смерти Петра. Похороны Петра были делом странным, невиданным. Его забальзамированное тело на 40 дней выставили в дворцовой зале, которую назвали Печальной. Петр лежал перед прощавшимися в гвардейском мундире, среди черного бархата. Потом начался перенос тел Петра I и его 6-летней дочери Натальи (умершей в начале марта) в недостроенный, но величественный Петропавловский собор. Это была долгая процессия. Над гробом, который везли в колеснице, 10 штаб-офицеров несли богатый балдахин на литых серебряных древках с гербами. В соборе тела символически посыпали землей – и прощание продолжилось. Само погребение состоялось через несколько лет, уже во времена императрицы Анны Иоанновны.

Но панихида прошла в свой срок на нерве. Вдова (хотя Петр с ней пребывал в последние дни в ссоре) рыдала все 40 дней. Да и все понимали: ушла эпоха. На прощании с государем Феофан произнес свою самую известную речь, поразившую современников: «Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное наше злоключение!» Его скорбь была искренней: он понимал, что достойного наследника император не оставил. Потом Феофан немало писал о Петре. В том числе – «Краткую повесть о смерти Петра Великого».

«Что за печаль повсюду слышится ужасно?»
Все вспоминали уход Петра как смерть титана. По сравнению с преемниками он выглядел еще выигрышнее: солдат, моряк, радетель за Отечество и просвещение. Василий Тредиаковский (он успел пересечься с императором, будучи школяром, в Астрахани) написал об этом событии, быть может, ярче других. По крайней мере, реквиемная оркестровка этих стихов соответствует размаху всеобщего горя:
- Что за печаль повсюду слышится ужасно?
- Ах! знать Россия плачет в многолюдстве гласно!
- Где ж повседневных торжеств, радостей громады?
- Слышь, не токмо едина; плачут уж и чады!
- Се она то мещется, потом недвижима,
- Вопиет, слезит, стенет, в печали всем зрима.
- «Что то за причина?» (лишь рекла то Вселенна)
- Летит, ах горесть! Слава весьма огорченна,
- Вопиет тако всюду, но вопиет право,
- Ах! позабыла ль она сказывать не здраво?
- О когда хоть бы и в сем была та неверна!
- Но вопиет, вопиет в печали безмерна:
- «Петр, ах! Алексиевич, вящий человека,
- Петр, глаголю, российский отбыл с сего века».
- Не внушила Вселенна сие необычно,
- Ибо вещала Слава уж сипко, не зычно.
- Паки Слава: «Российский император славный,
- Всяку граду в мудрости и в храбрости явный.
- Того правда, того милость тако украсила,
- Что всю тебя Вселенну весьма удивила.
- Кто когда во искусстве? кто лучший в науке?
- Любовь ко отечеству дала ль место скуке?
- Что же бодрость? что промысл? православна вера?
- Ах! не имам горести ныне я примера!»
- «Он бог твой был, Россия»
А потом сын архангельского рыбака Михайло Ломоносов, которого считали сыном Петра (по росту, стати и гению) напишет:
- Он бог, он бог твой был, Россия,
- Он члены взял в тебе плотския,
- Сошед к тебе от горьних мест;
- Он ныне в вечности сияет,
- На внука весело взирает,
- Среди героев, выше звёзд. –
Так он восклицал в оде, посвященной, между прочим, случайному и ненадолго заглянувшему прохожему на русском троне – Петру III. Но писал-то о Петре Великом!

Михайло Ломоносов рассуждал: «Я в поле меж огнём, я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями, я в разных художествах между многоразличными махинами, я при строении городов, пристанйй, каналов, между бесчисленным народа множеством, я меж стенанием валов Белого, Черного, Балтийского, Каспийского моря и самого Океана духом обращаюсь. Везде Петра Великого вижу в поте, в пыли, в дыму, в пламени». Как не прислушаться к Ломоносову, который собственными глазами видел последствия петровских дел? И не льстил. Михайло Васильевич вспоминал Петра в каждой оде, кому бы ее ни посвящал. Ломоносов всерьез считал, что уподобился Гомеру и Вергилию, прославляя великого монарха, жизнь которого представлялась Михайле Васильевичу фантастическим романом, не иначе:
- Однако скажут все: я был судьбой избран.
- Желая в ум вперить дела Петровы громки,
- Описаны в моих стихах прочтут потомки.
- Обильные луга, прекрасны бреги рек,
- И только где живет российской человек
- И почитающи Россию все языки,
- У коих по трудам прославлен Петр Великий,
- Достойну для него дадут сим честь стихам
- И станут их гласить по рощам и лесам.

Спор о Петре
Петра в XVIII веке боготворили. Но отчасти это была часть ритуала. Единогласного поклонения не было. Слишком много традиций он поломал, чтобы не появились несогласные. Среди них – такая яркая фигура для нашего Просвешения, как Екатерина Дашкова. Признавая Петра незаурядным правителем, он дала ему такую характеристику:
«Он ввёл военное управление, самое деспотическое из всех, и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами: тысячи рабочих погибли в этом болоте, и он разорил дворян, заставляя их поставлять крестьян на эти работы и строить себе каменные дома в Петербурге». Не нравился Дашковой и широкий разброс интересов Петра – от плотницкого дела до военной стратегии. Для нее это – скорее повод тревожиться, чем восхищаться. Она считала, что репутацию великого «создали Петру I иностранные писатели, так как он вызвал некоторых из них в Россию, и они из тщеславия величали его создателем России, считая и себя его сотрудниками в деле возрождения России». Что ж, Дашкова умела мыслить оригинально. Потому и не ужилась с Екатериной Великой, которая не позволяла себе критику Петра. Критиковал Петра и князь Михаил Щербатов, привередливый историк.
И все-таки – культ
Пушкин, всю жизнь размышлявший над феноменом императора, говорил: «Пётр был революционер-гигант, в одно и то же время Робеспьер и Наполеон». Поэт так часто упоминал императора, что очевидно: он жил мыслями о нем. Вспомним «Полтаву» или «Пир Петра I»:
- Над Невою резво вьются
- Флаги пестрые судов;
- Звучно с лодок раздаются
- Песни дружные гребцов;
- В царском доме пир веселый;
- Речь гостей хмельна, шумна;
- И Нева пальбой тяжелой
- Далеко потрясена.
- «…»
- Годовщину ли Полтавы
- Торжествует государь,
- День, как жизнь своей державы
- Спас от Карла русский царь?
- Родила ль Екатерина?
- Именинница ль она,
- Чудотворца-исполина
- Чернобровая жена?
- Нет! Он с подданным мирится;
- Виноватому вину
- Отпуская, веселится;
- Кружку пенит с ним одну;
- И в чело его целует,
- Светел сердцем и лицом;
- И прощенье торжествует,
- Как победу над врагом.

Именно такого Петра Пушкин чтил. Петра, способного на неожиданные вспышки милосердия. Хотя всегда помнил, что в истории первого российского императора бывало всякое:
- Начало славных дней Петра
- Мрачили мятежи и казни.
- Но правдой он привлек сердца,
- Но нравы укротил наукой,
- И был от буйного стрельца
- Пред ним отличен Долгорукий.
- Самодержавною рукой
- Он смело сеял просвещенье,
- Не презирал страны родной:
- Он знал ее предназначенье.
- То академик, то герой,
- То мореплаватель, то плотник,
- Он всеобъемлющей душой
- На троне вечный был работник.
Эти стансы адресованы, в первую очередь, Николаю I.
В «Медном всаднике» Пушкин увидел конфликт: маленький человек и государство, которое олицетворяет Петр, а точнее, памятник великому императору. С того времени эта дилемма всегда присутствует в нашем сознании. Чем должен пожертвовать человек для державного величия? Или, наоборот, государство должно становиться человечнее? Но не только это важно в самой загадочной и тонкой пушкинской поэме. Там есть блистательное Вступление:
- На берегу пустынных волн
- Стоял он, дум великих полн,
- И вдаль глядел. Пред ним широко
- Река неслася; бедный чёлн
- По ней стремился одиноко.
- По мшистым, топким берегам
- Чернели избы здесь и там,
- Приют убогого чухонца;
- И лес, неведомый лучам
- В тумане спрятанного солнца,
- Кругом шумел.

И известный каждому школьнику (будем надеяться!) гимн Петру и его городу:
- Красуйся, град Петров, и стой
- Неколебимо как Россия,
- Да умирится же с тобой
- И побежденная стихия;
- Вражду и плен старинный свой
- Пусть волны финские забудут
- И тщетной злобою не будут
- Тревожить вечный сон Петра!
До такого панегирического красноречия не доходил и Феофан Прокопович: он, по сравнению с Пушкиным, слишком однообразен.
Работая над историей Петра, Пушкин понял, что идеализировать его можно только в поэзии или живописи. Труд историка требует большей объективности. И все-таки Петр завершил канон петровского культа – после Феофана, Ломоносова, скульптора Этьена Фальконе.
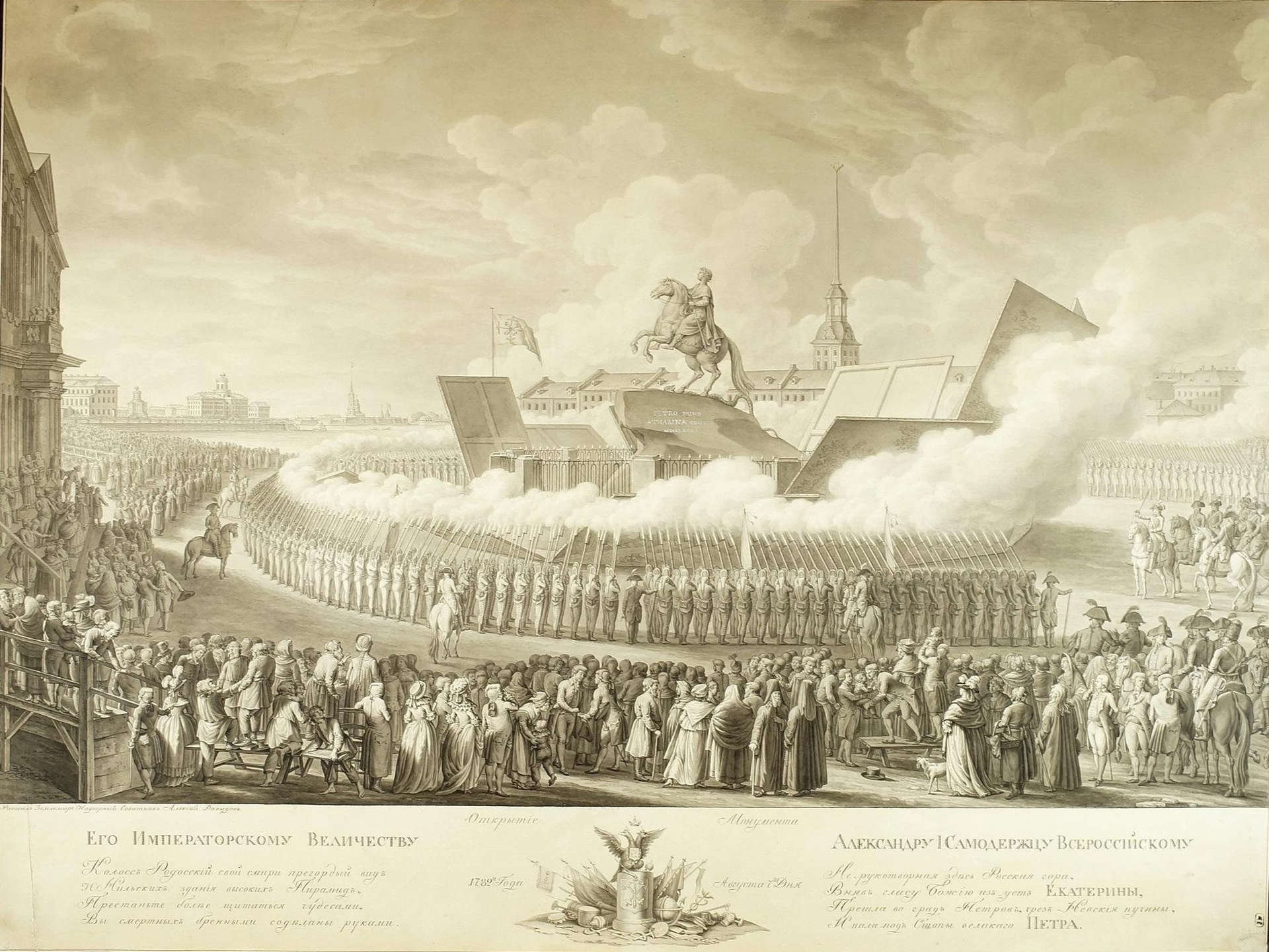
«Русь Петровна»
Во времена Николая I культ Петра Великого стал привычным, как сама идея Отечества. Первоначально на преклонении перед великим императором сходились и будущие западники, и предшественники славянофилов. Это потом, через 10-20 лет, он стал знаменем первых и мишенью для критики последних. А в 1841 году историк Михаил Погодин – явный почвенник – писал: «Да, Петр Великий сделал много в России. Смотришь и не веришь, считаешь и не досчитаешься. Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места, не можем оборотиться ни в одну сторону без того, чтоб он везде не встретился с нами – дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье. Все он, все он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу!

Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года. – Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от января.
Пора одеваться – наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он, шерсть настрижена с овец, которых развел он.
Попадается на глаза книга – Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее – этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный.
Приносят газеты – Петр Великий их начал.
Вам нужно искупить разные вещи – все они, от шелкового шейного платка до сапожной подошвы, будут напоминать вам о Петре Великом: одни выписаны им, другие введены им в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге.
За обедом – от соленых сельдей и картофелю, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного, – все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы идете в гости – это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам – допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого.
Пойдем в университет – первое светское училище учреждено Петром Великим.
Вы получаете чин – по «Табели о рангах» Петра Великого.
Чин доставляет мне дворянство – так учредил Петр Великий. <…>
Вы вздумаете путешествовать – по примеру Петра Великого; вы будете приняты хорошо – Петр Великий поместил Россию в число европейских государств и начал внушать к ней уважение, и проч., и проч., и проч.» Это настоящий апофеоз императора! Мало кто в те годы сомневался, что мы живем в стране, созданной Петром Великим, который, в виде Медного всадника, парил над державой. Похожее отношение в Советском Союзе поддерживалось к Владимиру Ильичу Ленину. И сдерживать панегиристов никто не собирался. А многие – даже оппозиционеры – считали, что обращение к памяти об этих великих людях поможет преобразовать страну, купировать шероховатости.

Пожалуй, самым страстным критиком Петра из славянофилом был Константин Аксаков. По сравнению с ним Алексей Хомяков рассуждал куда сдержаннее. С наибольшей силой Аксаков рассказал об императоре в стихах:
- Великий гений! муж кровавый!
- Вдали, на рубеже родном,
- Стоишь ты в блеске страшной славы
- С окровавленным топором.
- С великой мыслью просвещения
- В своей отчизне ты возник,
- И страшные подъял мученья,
- И казни страшные воздвиг.
- Во имя пользы и науки,
- Добытой из страны чужой,
- Не раз твои могучи руки
- Багрились кровию родной.
- Ты думал, - быстротою взора
- Предупреждая времена, -
- Что, кровью политые, скоро
- Взойдут науки семена!
- И вкруг она лилась обильно;
- И, воплям Руси не внемля,
- Упорство ты сломил, о сильный!
- И смолкла Русская земля.
- И по назначенному следу,
- Куда ты ей сказал: "Иди!" –
- Она пошла. Ты мог победу
- Торжествовать... Но погоди!
- Ты много снес голов стрелецких,
- Ты много крепких рук сломил,
- Сердец ты много молодецких
- Ударом смерти поразил;
- Но, в час невзгоды удаляся,
- Скрыв право вечное свое,
- Народа дух живет, таяся,
- Храня родное бытие.
- И ждет он рокового часа;
- И вожделенный час придет,
- И снова звук родного гласа
- Народа волны соберет;
- И снова вспыхнет взор отважный
- И вновь подвигнется рука!
- Порыв младой и помысл важный
- Взволнуют дух, немой пока.
- Тогда к желанному пределу
- Борьба достигнет - и конец
- Положит начатому делу.
- Достойный, истинный венец!
- Могучий муж! Желал ты блага,
- Ты мысль великую питал,
- В тебе и сила, и отвага,
- И дух высокий обитал;
- Но, истребляя зло в отчизне,
- Ты всю отчизну оскорбил;
- Гоня пороки русской жизни,
- Ты жизнь безжалостно давил.
- На благородный труд, стремленье
- Не вызывал народ ты свой,
- В его не верил убежденья
- И весь закрыл его собой.
- Вся Русь, вся жизнь се доселе
- Тобою презрена была,
- И на твоем великом деле
- Печать проклятия легла.
- Откинул ты Москву жестоко
- И, от народа ты вдали,
- Построил город одинокой –
- Вы вместе жить уж не могли!
Но поклонников у императора было больше.

Во время Крымской войны ностальгический панегирик в честь Петра сложил Владимир Бенедиктов – поэт, умевший не только девичьими кудрями любоваться:
- На Руси, немножко дикой,
- И не то чтоб очень встарь,
- Был на царстве Царь Великой:
- Ух, какой громадный царь!
- Так же духом он являлся,
- Как и телом, — исполин,
- Чудо — царь! — Петром он звался,
- Алексеев был он сын.
- Мнится, бог изрек, державу
- Дав гиганту: «Петр еси —
- И на камени сем славу
- Я созижду на Руси».
- Много дел, зело успешных,
- Тем царем совершено.
- Им заложено в «потешных»
- Войска дивного зерно.
- «…»
- И петровскую стихию
- Носим в русской мы крови
- Так, что матушку Россию
- Хоть «Петровией» зови!
- А по имени любовно
- Да по батюшке назвать,
- Так и выйдет: «Русь Петровна», —
- Так извольте величать!

Время противоречий
Куда уж величественнее и громче! Но уже наступало время более сложных рефлексий.
Когда Николай Ге начинал работать над картиной «Петр и Алексей», его симпатии были полностью на стороне Петра. Он приехал из Италии убежденным западником и был очень благодарен царю за то, что тот открыл «окно в Европу» и способствовал ускоренному движению России навстречу европейской цивилизации. Но, когда Ге погрузился в архивы и исторические документы во время подготовки к написанию картины, когда пообщался с историком Костомаровым, ему открылась вся жестокость Петра. Поэтому на полотне нет правых и виноватых. Есть спор – жесткого, непримиримого отца со смиренным, но убежденным в своей правоте сыном, которому художник сочувствует.

В 1930-е годы советские люди познавали Петра, в основном, стараниями Алексея Николаевича Толстого. Он писал свой бесконечный, так и незавершенный, но почти совершенный роман. Допетровская Россия, в колоритном изображении писателя, оказалась «неповоротлива и ленива». «Я уверен, что Петр не сын Алексея Михайловича, а патриарха Никона. Никон был из крестьянской семьи, мордвин. В 20 лет он уже был священником, потом монахом, епископом и быстро дошел по этой лестнице до патриарха. Он был честолюбив, умен, волевой, сильный тип.
Дед Петра, царь Михаил Федорович, был дегенерат, царь Алексей Михайлович – человек неглупый, но нерешительный, вялый, половинчатый. Ни внутреннего, ни Внешнего сходства с Петром у него нет. У меня есть маска Петра, найденная художником Бенуа в кладовых Эрмитажа в 1911 г. Маска снята в 1718 г. Растрелли с живого Петра. В ней есть черты сходства с портретом Никона. Петр действительно был знающим корабельным мастером, кузнецом, столяром и отличным резчиком. Он любил труд, мастерство и требовал этого от людей».

Во время февральской революции Толстой написал короткую повесть «День Петра», которую позже считал неудачной и даже написанной под влиянием Дмитрия Мережковского. Штука, между тем, вышла сильная, натуралистичная до предела с самого начала: «Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью». В этой повести Петр – вовсе не великий герой. Мы скорее обращаем внимание на его перегибы, на его каверзы и глупости.
Это уж потом Толстой научился восхищаться Петром – и с каким талантом! Да и было, за что. Он показал человека, который, не боясь, изучал и принимал то новое, что считал полезным. И, конечно, был яростен и победителен. Хотя главных его триумфов Алексей Николаевич отобразить не успел, рассказал о них только в сценарии кинофильма – кстати, замечательного.
Самым радикальным противником Петра в русской литературе был Борис Чичибабин, взявший на вооружение ярость прежних староверов, для которых Петр был антихристом:
- Будь проклят, император Петр,
- стеливший душу, как солому!
- За боль текущего былому
- пора устроить пересмотр.
- От крови пролитой горяч,
- будь проклят, плотник саардамский,
- мешок с дерьмом, угодник дамский,
- печали певческой палач!
- Сам брады стриг? Сам главы сек!
- Будь проклят, царь-христоубийца,
- за то, что кровию упиться
- ни разу досыта не смог!
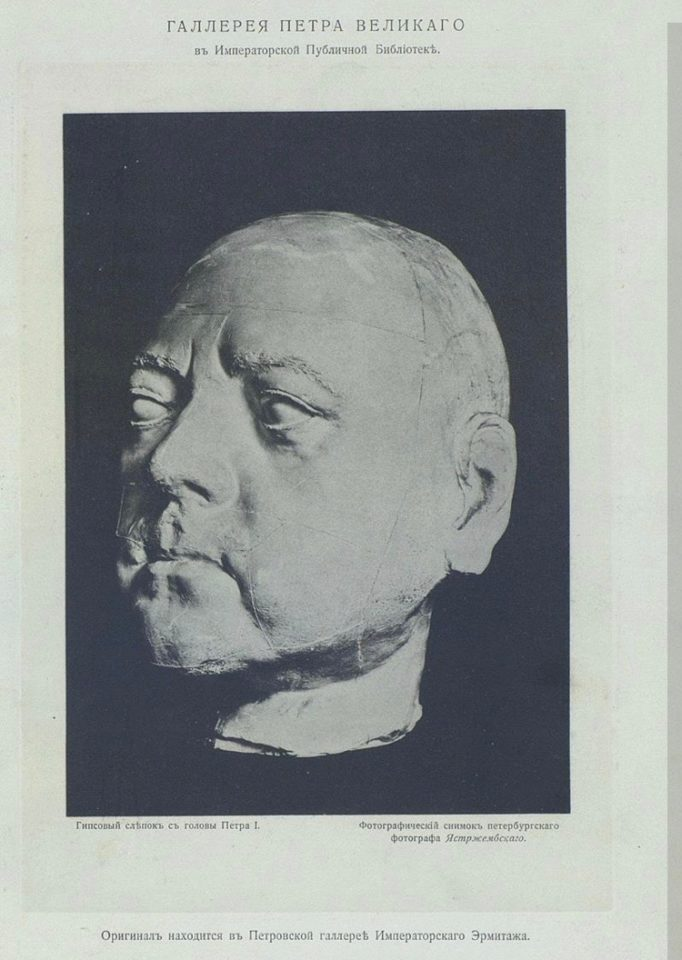
Написано броско, ярко. Поэт немало знакомых слов и грозных образов приберег для этой филиппики. Но надо учесть, что это, скорее всего, бунт против всего общепринятого. Все, официозное, привычное казалось поэту ложным. А Петр с 1930-х невольно вошел в советский официоз. Чичибабин сражается не только с Петром, но и с конформизмом. В наше время трудно упрекать Петра за то, что забывал о человеке, любыми средствами добиваясь державных целей. Мы видим, как быстро схожие идеи способны овладевать умами – без всяких царей в треуголках.
По существу, Чичибабин повторил проклятие Льва Толстого, который в очерке «Николай Палкин» так писал об императоре: «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует… Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобием Евангелий — ящиком с водкой… Коронует свою… и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына… И не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему…
И все ужасы — казни, убийство мужа, мучения и убийство законного наследника, закрепощение половины России, войны, развращение и разорение народа, все забывается и до сих пор восхваляется какое-то величие мудрость, чуть не нравственная высота этого плохого человека. Мало того, что восхваляют ее, восхваляют ее зверей любовников». Взвешенной эту оценку не назовешь. Подходить к государственным деятелям с нравственной меркой вообще – дело гиблое. Ломоносову все-таки было виднее, какую Россию принял Петр и как ее изменил… И стремление к просвещению, к науке – это важное направление, которое выбирают далеко не все монархи. А с такой страстью – только Петр, за что его и любили Лейбниц и Вольтер. Демонизировать Петра нетрудно. Но пускай западники помнят о том, что он приобщил Россию к европейской культуре, а почвенники – что ему мы обязаны самим понятием «патриотизма», сильным государством, которое трудно смести с земли и армией, в которой действует принцип «служить, не щадя живота своего» и понятия о чести. Ведь до Петра нередко сдавались, предавали, перебегали от сюзерена к сюзерены, не думая об Отечестве…

Завтрашний Петр
Сейчас Петр по-прежнему актуален – с его решительностью и ненавистью к безделью и рутине. Но достойных отображений императора в современной литературе и искусстве нет. Пожалуй, последним словом остается гиперреалистичный до гротеска памятник императору, созданный Михаилом Шемякиным. Он как будто хотел развенчать парадный образ, превратить Петра в такое же насекомое, как и мы все в глазах художника. Что-то получилось. По крайней мере, статуя стоит в городе имени Петра. Она интереснее, несмотря не эпатаж, глубже нелепого церетелиевского великана.

И в наше время литературе трудно обойтись без Петра – будь то прощальные романы ленинградца Даниила Гранина или эпопеи о Тоболе, о Сибири Алексея Иванова. Там Петр выступает скорее как фольклорный герой, как дух российской государственности – неуемной, мощной. Вызывающей и почтение, и ужас.
А мы… Думаю, мы еще не доросли до Петра. Хотя за 300 лет привыкли жить без его державного присмотра.