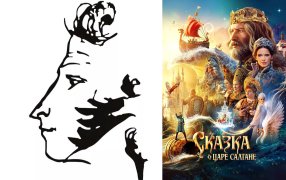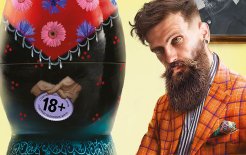Текст: Илона Шевцова (Литературный институт им. А. М. Горького)
Коллективные сборники короткой прозы — явление крайне живучее. Это древний и действенный способ коммуникации. Исходная ситуация видится такой: собрались люди из разных племён у костра, коротают ночь, травят байки. В России в 90-е процветали антологии фантастики. Затем уже в 2000-е конвейерное производство межавторских серий с уютной тематикой (котики, кофе, чай) наладил Макс Фрай. Похоже, сегодня тематические сборники переживают новый расцвет. В них участвуют и начинающие авторы, и вполне известные. Появление тематических сборников так или иначе отвечает на вызовы современности. Например, недавняя антология «Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей» Редакции Елены Шубиной недвусмысленно фиксирует актуальность телесного и тренд на «новую искренность». Сборник «Механическое вмешательство: рассказы, написанные вместе с нейросетью YandexGPT» от издательства «Альпина» удостоверяет триумф ИИ плюс исчезание авторства.
Маяки. Книга рассказов с иллюстрациями Алисы Бошко
- М.: Вече, Время прозы; 2025
Каков же тогда слепок состояния мира у сборника «Маяки» — дебютного в редакторской серии Алексея Небыкова «Время прозы» издательства «Вече»? О чём свидетельствуют маячные истории — о тяге к поиску ориентиров? Об имперской тоске по морю? Или приключенческий морской антураж — маркер эскапизма? И точно ли за маяками что-то маячит?

Чтобы настроить читателя на правильный лад, «Маяки» открывает редакторская статья. Вступительное слово Алексея Небыкова, по сути, является манифестом, декларацией о намерениях публиковать прозу «больших смыслов». Артикулированы её принципы, заданы эстетические и этические рамки. Небыков отстраивается от развлекательной литературы, обещая своей аудитории нечто большее. Завершают сборник статья специалиста по маякам Софьи Столяровой и биографическая справка, позволяющая соотнести тексты с их создателями. После открытого конкурсного отбора в издание вошли 29 текстов. Творческое задание звучало так: «В вашем рассказе так или иначе должен присутствовать маяк. Это может быть физический объект или вымышленный, в том числе символ, образ... Принимаются остросюжетные, страшные, мистические рассказы, обладающие глубоким смысловым содержанием». Сама идея собрать под одной обложкой маячные истории довольно спорная — пространство для манёвра не выглядит большим. Маяк сразу уводит в морской сеттинг: ночной шторм, кораблекрушение, спасённые-утонувшие. Возможно, в этом и крылся вызов — преодолеть инерцию. Ассоциативное богатство маяка позволило Небыкову собрать коллекцию историй, где почти нет повторов и тривиальных сюжетных ходов. Да и моря зачастую нет.
Условие «остросюжетный, страшный, мистический» не было дотошно соблюдено — в сборник попали вполне лирические, психологические истории. Пожалуй, это пошло на пользу изданию: от смертей, злодеев и ужасов читатель быстро устаёт.
В сборнике нестеснённо чувствуют себя и тяготеющие к реализму рассказы, и близкая Небыкову хтоническая проза. Будущая смерть постаревших родителей для героини Евгении Симаковой («Июньский ветер») самая что ни на есть хтонь, ей страшно даже глядеть в ту сторону. Разве не хтонь — привычное унижение нелюбимой дочери в рассказе Жени Декиной «Плохая»? Или мужское насилие, с которым сталкивается героиня рассказа Анны Антиповой «На краю света».
Тёмная природа человека, его внутренние демоны — один из внутренних сюжетов «Маяков».
Маяк и человек, их соприсутствие и коммуникация — центральная тема сборника. Кто же вступает во взаимодействие с маяками? Вот актуальный набор персонажей: дети, подростки, женщины и мужчины в расцвете сил, преступники и невинные души, геймеры, сёрферы, врачи, сотрудники консульства, воины, моряки и космонавты.
Маленькие авторские спектакли, разыгранные в маячных декорациях, зачастую требуют персонажа особого типа. Это смотритель-хранитель маяка. На верхнем конце шкалы — воплощенный свет: будущий смотритель-ребенок, наследник династии хранителей маяка (Марина Кулакова, «Катя идёт на маяк»). На нижнем конце шкалы — теневая сторона хранителя, Шкипер (Владимир Зайцев, «Многоэтажка»). Это жрец тёмного культа, практикующий человеческие жертвоприношения. Его чувство долга безупречно, ведь маяк должен гореть всегда, любой ценой. Маячная секта с татуировкой треугольника на запястьях точно добавила хтони в коллективное высказывание на заданную тему.
Но и в середине этой шкалы есть на кого полюбоваться. У смотрителя из лирического монолога от имени маяка (Екатерина Белчес, «Пора») с маяком — особая связь: «Он отвечает за меня, а я за него. Мы равны, мы квиты». И даже одна судьба на двоих: трансформация маяка и смерть его смотрителя синхронизированы. Смотритель-маячник «знает все правды мира, но молчит». Его фигура соответствует архетипу мудреца-отшельника, ведающего тайны мирозданья. Следуя логике мифа, хранитель маяка — демиург, сопричастный метафизике света.
Любопытно амплуа смотрителя маяка в рассказе Анны Безукладниковой «Не уходит». Афанасий Горов не просто наделён способностью видеть призраков, а выступает медиатором между мирами, своеобразным агентом своей убитой жены. Её призрак избавляет людей, прибывающих на остров, от других назойливых призраков. Смотритель — хмурый молчаливый человек, хранящий свои тайны. Его бэкграунд неожиданно раскрывается во вставной новелле с двойной интригой и своими умолчаниями. Неполнота информации приковывает внимание к каждой малозначительной детали. Этот рассказ словно флиртует с читателем. Онтологический статус одного из героев неочевиден почти до самой развязки. Сюжетным твистом отмечен и последний пассаж, который заставляет заново переосмыслить прочитанное. Я бы сказала, что это самый детективный рассказ сборника, к тому же безупречно отвечающий его концепции.
Афанасий Горов не единственный хранитель, вступивший в близкие отношения со смертью. У Дарьи Мордзилович (рассказ «Журнал Морригана») тот, кто смотрит за маяком на безымянном острове, наделён чертами привратника в царстве мертвых — Харона. Очевидные референсы — собака с кличкой Керби (Цербер) и вода, которая смывает память о прошедшей жизни. В отличие от бездушного Харона, Морриган эмпатичен и милосерден к умершим (матрица хранителя действует): «Я должен спасти хоть кого-нибудь».
Авторы сборника регулярно помещают хранителя в тонкие миры (с сохранением функционала спасать, наставлять на путь истинный). Эталонный хранитель представлен в рассказе «Дед» Андрея Гупало. После крушения военного крейсера он спасает мичмана Валерия Хохлова дважды — сначала дав ему приют на маяке, затем вступив в противостояние с мефистофельского типа незнакомцем, который предъявит свои права на жизнь и душу спасённого. Иррациональное начало в образе хранителя окончательно выявит финал рассказа. Мичман возвращается в большой мир, но его рассказу никто не верит: маяка на том острове нет, одни развалины. Необъяснимо лишь как туда попала фуражка Хохлова. Позже герой обнаруживает в ней странную находку: «из подкладки выпала небольшая бумажная иконка. Подняв ее, Валерий пристально посмотрел на выцветшее изображение и расплылся в широкой улыбке: — Дед!». Так образ смотрителя маяка сближается с ликом святого — скорее всего, Николая Чудотворца, покровителя моряков. Символично, что маленькую наклейку-иконку с подобным изображением находит на плавучем маяке герой рассказа Алексея Небыкова «Всяких полно. Живых мало», и с этого момента начинается история его чудесного спасения. У Марины Кулаковой («Катя идёт на маяк») силуэт маяка соотнесён с храмом. Христианские смыслы — одна из проекций, которые отбрасывают маяки в прозе этого сборника.
В рассказе Виктории Игнатьевой «Хозяйка отеля» смотритель явлен в пространстве сна героини. Условие диалога с ним — доверие к миру и внутренняя тишина. Мистическая фигура смотрителя прочитывается как высшая инстанция судьбы. Сам разговор с ним целебен — он подсказывает выход из жизненного тупика, побуждает к действию. Хранитель из рассказа Ольги Михайленко «Маяк» существует как бы в двух ипостасях — он вылеплен героиней из глины вместе с маяком, а затем визуализирован в её сновидении. И опять коммуникация со смотрителем чудотворна: к Тане возвращается смысл жизни, радуется её внутренняя Ассоль. В этих историях хранитель выступает как оракул, толмач, переводчик с языка бессознательного.
Редкий случай призрачного хранителя репрезентирует мистическая зарисовка Светланы Волковой «Тощий Якоб». Погибший русский моряк — единственный обитатель заброшенного маяка на Балтике. Он тоскует по родине даже в посмертии. Отношения хранителя и маяка здесь сродни симбиозу. Это ультимативное слияние в духе «часть команды, часть корабля»: «Теперь я, Яков Александрович, и есть Тощий Якоб. Вечный смотритель. Во мне нет плоти, но есть душа — душа маяка. Я все так же чувствую фантомные боли во всех частях моего исстрадавшегося тела, я могу плакать, и слезы мои смешиваются с талой водой и сырыми струями, текущими по стенам моего последнего дома».
Призрачный Яков — по сути, пленник маяка, и маяк в сборнике зачастую является местом ссылки. Космический сеттинг не помеха для прорисовки мотива недобровольного пребывания смотрителя на маяке: в финале рассказа «Звезды — это маяки» Анны Маринченко заключённый Миша несёт пожизненную вахту на звезде, что служит маяком для космических кораблей. В рассказе «Белая сова» Вячеслава Нескоромных действует семья спецпереселенцев. У Романа Разживина («Воля к Жизни») прибывший на маяк герой признаётся: «У меня был выбор: полтора года тюрьмы или три года на маяке». Суровая земля, где люди несут маячную службу, предлагает испытания, удивительно схожие с инициацией, как будто право стать хранителем добывается личным мужеством. В этих историях задействованы тотемные животные места — огромная полярная сова и волки.
Кто приходит к хранителю? Маячных смыслов взыскует, как правило, потерявшийся-потерянный человек в разладе с собой и с миром. Встреча с хранителем маяка для таких паломников — важная веха, знаменующая расставание с тягостным прошлым и чувством вины («Не уходит» А. Безукладниковой), трансформацию ценностей и мировоззрения («Дед» А. Гупало, «Хозяйка отеля» В. Игнатьевой, «Маяк» О. Михайленко), иногда переход в иной мир («Журнал Морригана» Д. Мордзилович). Будь то экзальтированная женская проза или скуповатая на эмоции мужская, герой так или иначе уходит с маяка преображённым.
Сама конструкция «человек и его маяк» (или «маяк и его человек») ведёт себя любопытно: её составные части взаимозаменяемы. Свойства маяка — светить, указывать путь распространяются на его хранителя. Но верно и обратное: в отсутствие хранителя силовое поле маяка работает, как если бы он был. Маяк предстаёт идеальным, пусть и молчаливым собеседником, нравственным ориентиром, высшей духовной инстанцией. В историях Дарьи Ледневой «Здесь», Анны Антиповой «На краю света», Жени Декиной «Плохая», Евгении Симаковой «Июньский ветер» хранителя нет, и он даже избыточен, потому что маячная матрица включается сама по себе. К маяку идут на исповедь, на нём принимаются судьбоносные решения, рушатся или воссоединяются семьи. С него развеивают прах умершего, как в рассказе Татьяны Филипповой «Южный маяк».
Границы между типами маячных героев призрачны и прозрачны, переход возможен. Герой рассказа «Не уходит» Анны Безукладниковой сначала прибыл на маяк в поисках убежища, спасаясь от разгневанных односельчан, и стал смотрителем. Молниеносный бросок из статуса пришлеца в статус хранителя совершает герой Алексея Небыкова, починив неисправный маяк, вернув его существованию извечный смысл — спасать жизни. И маяк из плавучей тюрьмы становится для героя ковчегом.
Ещё один тип маячного героя — люди-маяки с их идеей служения. Не всегда источник внутреннего света — сам смотритель. Маяком может быть и человек, не имеющий никакого отношения к морскому делу, как героиня Ксюши Вежбицкой («Последний волонтёр»): заражённая смертельным вирусом, она делает последнее в своей жизни доброе дело — выпускает на волю животных брошенного приюта. В рассказе «Света» Ольги Кузьмишиной сеть людей-маяков — радар для ангелов и последний шанс спасения Земли, у которой погасло солнце.
Топос маяка в рассказах зачастую связан с опытом подлинного существования человека. Спасение не тела — души становится центральной темой рассказа Алексея Небыкова «Всяких полно. Живых мало», где герой невольно повторяет духовный подвиг столпничества. Отказ от идеи выжить любой ценой, ценой убийства и каннибализма приводит его на верхнюю площадку плавучего маяка-буя. Находясь в одиночестве, умирая от истощения, он вверяет себя Божьей воле. Здесь маяк осмысляется как пороговое пространство, за которым либо смерть, либо свобода. На маяке, у маяка, в поле маяка человеку становится доступной вся полнота присутствия. «Место, где ты чувствуешь себя целой» (Е. Симакова).
Маяк как образ-скрепка сборника то свертывается до эмблемы, то обрастает индивидуальными реалистичными подробностями, но неизбежно концептуализуется. Конвертация маячных смыслов в общечеловеческие предзадана его функцией.
Несколько слов о сборке сборника
Первый рассказ «Всяких полно. Живых мало» авторства самого составителя задаёт импульс всей книге. Это обосновано. А дальше начинается область догадок. Последовательность текстов — самый закрытый момент в вёрстке коллективных антологий. Читатель имеет право читать истории в своём порядке, ориентируясь на знакомые имена, на интригу заглавий, да просто наугад. И тем не менее, сложно представить издание, где тексты расставлены совсем рандомно или, например, по хронологии получения текста редактором. Ориентация на сильный-слабый текст (рассказы-«паровозы» вначале, спорные опусы в конце) рискованна: читатель легко распознаёт эту стратегию и может бросить читать на середине сборника. Другой незатейливый ход — алфавитная расстановка исказил бы логику внутреннего сюжета сборника, нарушил его смысловое единство.
Рассказов много, и было бы легче ориентироваться в пространстве внутри сборника, будь у него разделы. Велик соблазн проделать эту работу постфактум. Навскидку, можно было бы взять за основу деления локацию — но тогда окажется, что значительная часть рассказов использует морской (изредка земной) сеттинг, и лишь два рассказа — космический. Они-то как раз помещены рядом, «Света» Ольги Кузьмишиной и «Звезды — это маяки» Анны Маринченко. А ведь есть ещё экспериментальный рассказ «Ноготь» Алексея Солонко, где маяк не в космосе и не на земле, а в пространстве мифа, в голове у героев. И рассказ Светланы Шульгиной «Без выхода», где маяк фреймирован компьютерной игрой, заведомо виртуален. Иные констелляции складываются, если взять за основу разделения наличие или отсутствие мистической составляющей, или если сепарировать тексты о поиске внутреннего света от прочих. Лирическая и ритмизированная проза (как рассказ Инны Девятьяровой «Дом с сотнями глаз») тоже составляют некую общность.
Что приобретают и что теряют тексты от стилистически чужеродного соседства под одной обложкой? Ровная подборка привела бы к автоматизму восприятия. В «Маяках» же чередование рефлексивно-медитативных рассказов — и сюжетных, динамичных волей-неволей переключает режимы, задаёт бодрящий прерывистый темп чтения. Исцеляющие личные истории о травмирующем опыте, о детстве и взрослении можно счесть антидотом от избытка морской романтики и хоррор-эстетики, и наоборот.
Сборка сборника по-небыковски — принцип слоистости и правильные пропорции, где всё уравновешено своей противоположностью: хтонь, брутальный реализм, лирическая проза, повторить. Благодаря чему автономные голоса авторов, встроенные в коллективный нарратив, не перекрикивают друг друга и не сливаются в невнятный гул. Различимые переключения жанров и стилей и есть внутренний движок «Маяков». Книга как эмоциональное путешествие: читатель успеет зачерпнуть разные состояния — меланхолии и страха, удивления и узнавания, саспенса и катарсиса в безопасных дозах, отмеренных короткой формой. Между хаотично организованным сборником и гладко причёсанным сборником, между лесом и газоном есть пространство луга, разнотравья, выверенной свободы. Не мешающее считывать цельность внутреннего сюжета книги, подспудные лейтмотивы, сквозную символику. Позволяющее видеть все цвета, все цветы.