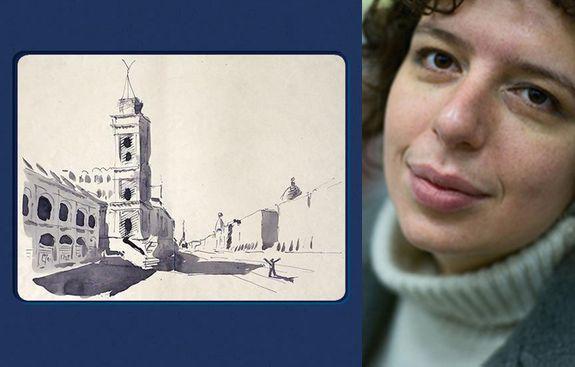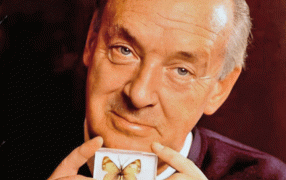Текст: Оксана Васякина
Обложка с сайта издательства
Полина Барскова. «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2020

Диапазон работы Барсковой широк: от академической работы до художественной литературы. Барскова пишет статьи, которые выходят в строгих изданиях научной серии издательства «НЛО» и предисловия к книгам о блокадной литературе. Например, она составила хрестоматию блокадных текстов для подростков, вышедшую в издательстве «РусЛит», затем – билингвальную антологию блокадной поэзии «Written in the dark: Five Poets in the Siege of Leningrad», которую выпустило американское издательство «Ugly Duckling Presse». Барскова написала роман «Живые картины», в котором затрагивается тема блокадного быта и письма, а также ставится вопрос о возможности говорить и писать о блокаде сегодня. Кроме всего прочего, «Живые картины» – это книга о том, как личную травму можно высветить и проговорить вместе с травмой исторической. «Живые картины» – это роман о проживании города, несущего на себе отметину катастрофы. В этот же ряд можно поставить и поэтические тексты Барсковой, в которых она часто обращается к теме блокады и голосам тех, кто в ней растворился.
«Седьмая щелочь» посвящена восьми поэтам, писавшим в блокаду и писавшим саму блокаду. Это одновременно и очень тесный мир соглядатаев, и мир огромный, в котором умещаются представители официальной советской литературы, такие как «придворный поэт» Николай Тихонов и «голос блокады» Ольга Берггольц. И поэты, которых с легкой руки Лидии Гинзбург Барскова называет «непечатабельными»: покинутая, но решившаяся на бытие в блокаде Наталья Крандиевская и покинувший блокадный город художник Павел Зальцман. Фантаст Геннадий Гор, взывающий к ничто и пишущий ничто, и паразитирующий на поэтическом таланте других Сергей Рудаков. Верящая в чудо силы не власти Советской, но собственной материнской любви Зинаида Шишова и, наконец, Татьяна Гнедич, которая пыталась встроить хаос блокады в строгую кристаллическую форму.
Все они жили там и видели блокадный город и быт. Они были свидетелями гибели близких и далеких людей, гибели других, менее удачливых и менее встроенных в блокадную иерархию коллег. Замечательна рассказанная Барсковой история художницы Глебовой, которая несколько раз переделывала свою открытку для «Решателя Блокадных Художников» Владимира Серова, чтобы спасти отца и получить хлеб. Она, ученица Филонова, медленно перетачивала свой стиль, чтобы он был более советским, и раз за разом носила макет Серову. Отец ее погиб, а Серов так и не взял в работу ее материал. Они видели друг друга и город, в своей книге Барскова делает зрение блокадника самым важным инструментом памяти и поэзии.
Такой подход позволяет расслоить однозначное понимание блокады, не дать читать и, что самое главное, помнить ее однозначно. Барскова напоминает историю древнегреческого поэта Симонида, который обидел царя тем, что на пиру посвятил свое выступление не только ему, но и богам. Царь прогнал поэта, заплатив ему половину гонорара со словами, что остальную часть заплатят боги. Симонид покинул дворец, и дворец обрушился на празднующих, их тела смог опознать только Симонид, потому что он был там. Так, пишет Барскова, «пошла традиция связывать поэзию, память, ощущение места и катастрофу». Здесь способ видеть и точка обзора диктует способ письма и обращения, и, следовательно, уже после, мышление о катастрофе.
Что это за место, из которого видит и обращается Тихонов? Он встраивает блокаду в легальный исторический континуум – будущая победа в блокаде обеспечена бывшими победами советского народа. Но, пишет Барскова, читая стихи, читайте другие работы поэтов – дневники и прозу. Тихонов проговаривается в своих рассказах, там он выписывает руинизированный, оголенный, лишенный героизма Ленинград. Берггольц прячет свой дневник под скамеечкой у подъезда, не оттого ли, что в нем голос ее становится тихим?
Другая точка видения доступна Рудакову. Раненный, он лежал в госпитале, что давало ему возможность питаться. Он видит городскую жизнь как будто немного извне, у него есть возможность касаться блокадного быта, но не погружаться в него, и Рудаков с безопасной дистанции наблюдает, как умирает поэт Михаил Ремизов.
Одинокая Наталья Крандиевская не покинула блокадного города, это было ее творческим выбором, она живет одна в своем доме и пишет. Барскова, чтобы описать ее метод, предлагает природное явление «глаз бури, когда в центре урагана возникает просвет, и там в какой-то момент наступает тишина». Она видит свой дом и слышит его, как будто очень медленно наблюдает за ним, в ее текстах нет места экзальтации. Но есть пристальное внимание к быту. Другой, более торжественный и эмоциональный блокадный текст пишет Зинаида Шишова. Она смотрит на умирающего сына, и близость умирания любимого тела вырывает из нее то доскональное, неумытое описание реальности, то попытку вписать этот крохотный на фоне великой советской истории эпизод в официальный победоносный дискурс.
Но самые страшные – голоса Гора и Зальцмана. Зальцман следит за несправедливостью мира блокады, в его стихах есть место тем, у кого еда есть, и самой этой еде, а смотрит на это все и описывает озверевший от голода дистрофик. Гор же видит только конец распада мира и тела в нем, он обращается к ничто и пишет скорее уже не руины, но обезображенные культи.
Перечисленные способы смотреть – из сытости, одиночества, потери и смерти на один и тот же катастрофический мир, Барскова собирает в одну книгу, и этим показывает:
нет одной точки зрения, нет одного прямого и чистого дискурса для говорения и письма об исторических событиях.
Она показывает, насколько одновременно разнесены и спаяны были миры литературы, и подчеркивает: блокада не родила новый способ письма, она довела до предела созданные до нее методы и актуализировала их. И чтобы читатели убедились в этом, в книге есть приложение из небольшой антологии блокадных текстов тех, кто стали героями «Седьмой щелочи».