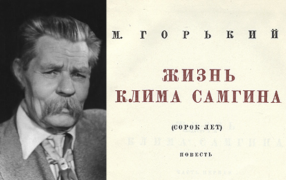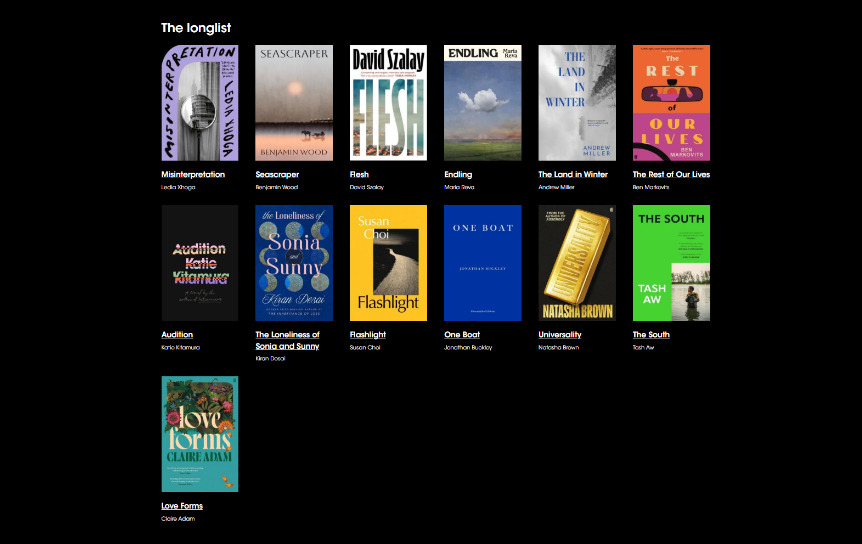Текст: ГодЛитературы.РФ
Обложка и фрагмент текста предоставлены Издательством Ивана Лимбаха
Жан Расин (1633—1698) справедливо ассоциируется у нас со строгой классицистической трагедий, в которой боги и герои облекают свои возвышенные чувства в «двойною рифмой оперенный стих». Но Натали Азуле извлекает из-под классических одеяний живого противоречивого человека — и высокопарные слова наполняются живой кровью. Во всяком случае, для рассказчицы, переживающей любовную трагедию, как и несчастная Береника. По словам переводчицы романа, Наталии Мавлевич, чтобы перевести эту книгу, удостоенную в 2015 году премии Медичи, ей «пришлось научиться иначе дышать». Что это значит — москвичи могут сами п(р)очувствовать на встрече с ней 28 февраля в 20:00 в «Порядке слов Перелётного Кабака» (Мансуровский пер., д. 10). В беседе примет участие литературный критик Николай Александров.
Натали Азуле «Тит Беренику не любил»
Пер. с франц. Наталии Мавлевич.
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018
Дни тянутся, похожие друг на друга, но ему это однообразие мило. В пять утра колокол бьет подъем. Жан и шестеро его соседей по спальне открывают глаза, а их сновидения — женские округлости, нежные объятия, уютный очаг, грозный голос Всевышнего или адское пламя — при первых проблесках зари запираются на замок. Все мальчики как один простираются ниц. Кое-кто еще полусонный. Потом встают, причесываются, одеваются, и начинаются занятия: сначала повторяют пройденное накануне. Отвечают все по очереди — каждый свою часть урока. А под конец учитель собирает все ответы воедино — весь урок целиком восстановлен. Важно, чтобы каждый ученик внес свою лепту и его труд был оценен по справедливости; чтобы общее целое рождалось из личных усилий.
В семь разучивают новый урок в классе, затем идут завтракать в спальню. Все молча смотрят друг на друга, пьют, медленно жуют и переводят дух, прежде чем в девять взяться за тяжелый труд — латинский перевод. Чаще всего учитель выбирает Овидия или Вергилия, поэтов, не знавших истинного Бога. Образы Вергилия, простые, неожиданные, выразительные, хоть и незатейливые, сразу поразили Жана. Кто-то из мальчиков сказал, что это непристойный автор. Учитель ответил, что до Христа такими были многие поэты, но это не делает их менее великими. Мчится, сказано у него, «pallida morte futura»*. Жана охватывает какое-то особое чувство, как тогда, перед красным и зеленым. Французский язык щерит все свои предлоги и артикли, как собака клыки, его узловатый скелет обнажен, в латинском же все сочленения скрыты. И в этих плотных оборотах пульсирует смысл, накатывает волнами, как запахи сырой земли.
— Бледна из-за близости смерти, — говорит один из учеников.
— Нет, — говорит учитель.
— Бледна близкой смертью, — предлагает Жан.
— Это бессмыслица! Нельзя быть бледным чем-то!
— Верно, и все же перевод Жана мне кажется более точным.
Во всех глазах вопрос, но учитель уже устремляется дальше, ускоряет темп, увлекает класс за собой.
Все измотаны переводом. Жана мутит, у него болит голова. Конечно, учитель знает: они еще дети, но он терпеть не может их пустых, бездумных взглядов, скользящих с предмета на предмет.
— И последнее, — гремит его голос. — Кто скажет, почему здесь дательный падеж?
Ни у кого нет сил соображать, и только Жан пытается ответить на вопрос. Учитель неутомим, так и переводил бы часами. Жан наконец находит подходящий ответ.
— Отлично, Жан. Урок окончен, — смягчается учитель.
Обедают в столовой. Идут бесшумно, группами, в каждой — соседи по спальне. Гуськом, вслед за учителем, подходят к своему столу, рассаживаются, учитель тоже занимает место. Можно оглядеться, передохнуть, рассеянно слушая певучие стихи Писания. Мерный ритм убаюкивает мысли, они замедляют бег, разбредаются — и так до самой
перемены. На лицах расплываются блаженные улыбки, Жана они раздражают. Он рад бы встать и уйти, но приходится обуздывать нетерпение, сдерживать зуд в ногах, готовых прямо сейчас бежать к садовнику-лекарю.
Жан и Амон, на коленях, копаются в земле и беседуют, не глядя друг на друга. Их разделяет всего несколько сантиметров, и если вдруг, думает Жан, он потеряет равновесие, то привалится к боку учителя и не сразу поднимется; они в параллельных позициях, но в чем-то главном сходятся, в какой-то важнейшей точке пересекаются.
Говорят они о вещах неоспоримых и незримых — о кровообращении, к примеру. Это беседа не о том, что на виду, и Жану нравится такой разлад, такое раздвоение, разобщение слов и предметов. Руки их возятся в земле, глаза устремлены на корни и на листья, дух же занят глубинным красным током.
У них тут, в стороне от всех, свое гнездо из потаенных слов. Приблизься кто-нибудь чужой — Амон замолкает. Ему не велено вести такие речи. Жан восхищенно слушает. И временами даже ухитряется шепотом вскрикивать, дивясь тому, как складно все устроено. Тут ему и наука постигать противоречия: вот, например, восторг и дисциплина — противоречие, впрочем относительное, поскольку вера умеряет изумление.
— Нет никаких причин для удивления, ведь это совершенство существует лишь по воле Божьей, — говорит Амон.
Его познания безграничны. Рядом с ним Жану кажется, что его собственное тело становится прозрачным, как стекло, и в нем не остается никаких секретов. От этого ему неловко, тянет завернуться в несколько слоев одежды, но все равно Амон увидит все насквозь. Единственное утешение — душа, вот где можно укрыться, как за плотной завесой. Вручить свою душу Господу, думает Жан, — самый лучший и надежный покров.
Цветов в парке довольно мало, зато много кустов и огромных деревьев.
Повсюду, говорит Амон, вырубают дубы, чтобы строить королевский военный флот. Дай бог, чтобы король не добрался до нашего парка.
Он знает все виды деревьев, показывает грабы, клены, вязы. В чем их отличия, какие у них свойства, откуда происходят их названия. Жан готов его слушать часами. Слова «вяз» и «ольха» на латыни имеют общий корень, объясняет он, из бука была сделана перекладина Креста Господня. Липу так назвали потому, что листья у нее липкие.
— И все? — удивляется Жан.
— Да, в данном случае название интереснее,
чем само дерево.
Прекрасно, радуется Жан, довольный, что слова бывают поважнее вещей.
Ему случается бродить по парку в одиночестве, он смотрит на деревья, похожие на молчаливых стражей, под чьими сомкнутыми, хрупкими ветвями можно укрыться от палящего солнца и ливня. А то — усядется под кроной и бормочет шепотом слова, которые потом тайком записывает для своей тетушки, пока учитель не велит ему
вернуться к остальным ученикам. С названиями деревьев он сроднился настолько, что превратил их в имена, такие же как имена товарищей, и пишет их с заглавной буквы, даже на уроках грамматики.
— Трепещет на ветру Осина.
— Нет! — говорит учитель. — Осина, дуб, ольха — все это нарицательные, общие имена. Их пишут не с заглавной буквы, а со строчной — такое правило.
— Пусть так. Но разве не могу я взять и назвать собаку каким угодно нарицательным: Монастырем, Каретой? — возражает Жан.
— Разумеется нет. Для этого есть другие имена.
Но несмотря на возмущение учителя, Жану в голову так и лезут нелепые соображения. Когда проходили единственное и множественное число, он утерпел, промолчал, но ему ясно представлялся целый рой промежуточных форм, диковинные обозначения множества на мгновение затуманили взор. Учителю и не потребовалось их слышать, он пресек попытку бунта в зародыше:
— Законы грамматики следует неукоснительно соблюдать.
— Разумеется, сударь.
Жану даже нравился этот жесткий корсет правил, нравилось, когда на тело и на уста наложены некие узы.
И все же… На уроках поэтики корсет можно чуть-чуть ослабить. Жан расправляет легкие, читает, как дышит. Перед ним открываются дали, сам воздух становится терпким, одевается листьями. И не сказать, что Жан читает не так, как другие, но, слушая его, учитель словно чувствует прикосновение ласкающего ветра.
Однажды утром Лансло рассказывал о том, что тексты надо «препарировать». Он не сказал «как трупы», но именно это послышалось Жану.
— Мои коллеги не считают это столь уж важным, но тут, у меня, это необходимо. Писать, переписывать и пре-па-рировать.
Жан в тот же день помчался к лекарю и положил это слово к его стопам.
— Скажите, сударь…
Тот отвечал, что препарировать очень полезно, однако же, по его мнению, несколько странно, что юным отрокам преподают такие тонкости поэзии, тогда как следовало бы только прививать им милосердие и любовь к Богу.
— Нам все-таки позволено читать не все стихи, — говорит ему Жан.
— И хорошо. Такой запрет для вашего же блага, — уверяет Амон. — Ибо, читая книги, сочиненные людьми, мы незаметно для себя проникаемся их пороками.
— Вы сами мне рассказываете много недозволенного, — осмеливается заметить Жан.
— Но ничего такого, что посягало бы на славу Господа.
Надо признать, что иногда, когда он читает вслух, на повороте какого-нибудь стиха в нем
словно поднимается вихрь, дуновение, которое вот-вот унесет его прочь из парка в небеса, но не те, где обретается Господь. Он старается удержаться, цепляется за слова, за мелодию. И — возвращается в класс, становится таким же школьником, как другие. Но не надолго; он единственный из всех не боится спросить учителя, какие сочинения
им запрещены.
— Ну, христианским детям не подходит четвертая песнь «Энеиды».
— Но разве мы не изучали отрывок из нее? — удивляется Жан.
— Да, изучали, ибо в этой песни, как вы сами видели, представлены безукоризненные образцы латинского гения. Но больше это не повторится. А вы, между прочим, завтра же утром вернете мне все книги.
Ночью после этого разговора Жану не спится. Шесть ровных воздушных струй сплетаются в комнате — соседи Жана размеренно дышат во сне. Он же дышит прерывисто. Бесшумно зажигает свечку, хватает запрещенный том. Если бы знал — открыл бы его раньше. Руки дрожат. Он ждет чего-то страшного, но ничего такого нет,
только жалобы царицы Дидоны, текущие густым медом. Глаза, как мошки, увязают в них, не схватывая ничего. Разочарованный, Жан закрывает книгу, задувает свечку, зато на душе полегчало, как будто он прогнал из-под кровати какое-то
чудище.
Амон подарил ему «Параллельные жизнеописания» Плутарха. Этот подарок скрепил их союз. Жан стал читать; сначала его пальцы лишь робко, почти не прикасаясь, перелистывают страницы, но чем дальше, тем больше он осваивается, и вот уже смелеют не только руки, но и перо — он добавляет в книгу собственные слова. Крупным школярским почерком уверенно выводит на полях языческого сочинения благочестивые пометы: «Благодать», «Божественное Провидение», «Человек не может быть совершенным», — памятуя о том, что главное в чтении — истолкование. И с каждым днем он открывает что-то новое, все глубже проникает в текст, извлекает фразы, будто
очищает их от кожуры. Страницы с плотно исписанными полями становятся похожи на анатомический атлас. Жан горд собой и как-то раз приносит книгу в парк, чтоб показать ее Амону.
— Каждый сам наживает свои шрамы, — говорит ему лекарь.
Жану обидно: он хочет слышать от Амона простые, ясные слова, а тот иной раз норовит, точно оракул, ответить темным афоризмом. Но дни идут, Жан продолжает вписывать в Плутарха свои буковки и постепенно понимает: он расчленяет текст и заново сшивает. Но если чтение подобно скальпелю, то комментарий, несомненно, шрам.
Недели через две однажды утром орава парней закидала камнями школьников из лощины, потому что те — за ненавистного всем вокруг короля. Камни летели отовсюду, так что наставники не могли заслонить учеников. Руки и ноги Жана налились лютой яростью, впервые в жизни. Если и случалось ему отбиваться, то судорожно, неумело, без такого размаха и силы, которые невесть откуда появились теперь. Он испугался этой силы,
но чувствовать ее в себе было совсем неплохо.
Спустя несколько часов фрондеры-малолетки разбежались. Жана ранило в голову. Было больно, но он ликовал. Боль не могла сравниться с радостью, доставленной сознанием того, что тело и душа все же могут преодолеть свою пресловутую разобщенность; он, Жан, испытал на себе, как бывает, когда телесность, обгоняя разум, вырывается на волю. Амон обрабатывал рану, бережной рукой прикасаясь ко лбу и объясняя ровным голосом,
что и зачем он делает. Каждое тело, повторяет он, наживает себе собственные шрамы. Жан думает о своем первом шраме как о драгоценном камне: он будет мелким и блестящим.
— Правда?
— Пока еще трудно сказать, — отвечает Амон, — но, каким бы он ни был, то будет знак вашей верности французскому монарху.
Плоть Жана вздрогнула и сжалась от этих слов. Не существует по отдельности телесных шрамов и душевных. Шрам ложится разом и на кожу и на душу. Он, Жан, безмерно любит короля, это земное божество, желает так или иначе послужить его славе — и вот отныне шрам будет светиться у него на лбу, точно счастливая звезда, к которой в будущем прибавятся другие и образуют диадему. Он улыбается сквозь боль. Но почему те драчуны сегодня выкрикивали имя Амона? Будто он с ними заодно и тоже против короля? А кто-то даже крикнул, что архиепископ прислал солдат, чтоб надзирать за ним.
И Жан решается спросить:
— А где знак вашей верности монарху? И почему они кричали, что вы против него?
Амон лишь улыбается в ответ и прерывает разговор. Все заживет бесследно, лоб снова станет гладким.
На следующий день Жан уступает искушению посмотреться в оконное стеклышко. Рану на лбу он прикрыл было прядью волос, но потом передумал: не захотелось нарушать красивую симметрию между кончиком носа и этой отметиной. Он отодвинул прядь, и тут его застиг учитель и выбранил за самолюбование и праздность. Жан покраснел, поймал себя на мысли, что он хорош собой, и так сжал зубы, будто хотел стереть эту мысль
в порошок.
Родился новый способ изучать латынь. Все правила запоминаются французским восьмисложником — никак иначе. Настоящий переворот в голове, но надобно привыкнуть и воспринимать его как норму. Отныне, засыпая на качелях мерного
дыхания соседей, Жан слышит восьмисложные стихи, они в нем появляются и закрепляются. Он околдован, убаюкан этим строем. Вся его жизнь проникается музыкой. С тех пор он надолго запомнит, как по ночам язык становится певучим.
Учителя отметили его стремительный прогресс в латыни. Удачное наитие.
— Означает ли это, что каждый язык — музыка? — спросил он как-то утром у наставника.
— Вы здесь не для того, чтобы учиться пению, — осадили его.
В нем роятся вопросы. Однажды на уроке кто-то из мальчиков спросил, почему им никогда не задают сочинения на латыни.
— К чему нам заменять живой язык мертвым?
Жестокие слова, подумал Жан. Как может язык умереть? Ему не терпится сбежать из класса и спросить, что думает Амон, ведь он единственный, кто понимает разницу между живым и мертвым, — не терпится, но он не двигается с места. Других детей это нисколько не тревожит, что же, и он пытается унять свой ужас, надеясь, что слова, как и души, бессмертны.
— Важно другое, — говорит учитель, — приблизиться к древним, перенять у них все, что можно, рассмотреть изнутри, распотрошить их тексты. Таким вот образом мы формируем свой язык. А теперь обратимся к известной цитате: «Ibant obscure sola sub nocte per umbram»*.
Жан подумал и предложил звонким голосом:
— Они шли, одинокие, через темную ночь.
— Нет. Неточно. Вергилий говорит другое.
Жан перечитывает — дважды вслух, раз десять про себя. Он видит скользящие тени, фигуры во тьме.
— Они шагали сквозь мглу, темные в одинокой ночи, — произносит учитель.
Вообразить одинокую ночь Жан не в силах. Какая-то такая темнота, вбирающая все людское одиночество… нет, слишком смутно, неопределенно. Чтобы отвлечь усталый мозг, он считает слова: на латыни их меньше. И почему во французском приходится быть многословнее? Разве нельзя достигнуть той же емкой густоты? Он делает еще одну попытку:
— Темные, шли они одинокой ночью. Слов еще меньше, совсем хорошо, хотя по-прежнему не очень ясен смысл и неувязка с прилагательными. Жан снова и снова твердит про себя эту фразу. Она, пожалуй, угловатая: сверкает, как алмаз, но нет в ней прозрачности чистой воды.
Учитель, помолчав, кивает, улыбается:
— Вот это точно.
— Но это же бессмыслица, — возражает кто-то из учеников. — Что значит «одинокой ночью»?
Жан не спорит и не объясняет. Сам знает: чтобы дойти до такой фразы, ему пришлось пожертвовать частицей логики и положиться только на гармонию, созвучие слогов. У перевода, понял он, слишком много исходных задач, и переводчик поступает подобно геометру: задавшись целью провести окружность через четыре произвольные точки, тот включит в нее только три, а к четвертой по возможности приблизится. Но Жан дает себе зарок когда-нибудь научиться включать все четыре. К концу урока отчаяние настолько выстудило класс, что Жан едва нашел в себе силы шепнуть Лансло: окончательно мертвый язык вряд ли доставил бы столько мороки и вызвал столько разнотолков.
— Напротив: дело в живости французского, который развернул перед латынью весь веер разных вариантов. Запомните это. Берите из латыни все, что вам приглянется, не каменейте перед ней, черпайте полными горстями.
Вот это Жану по душе. Он любит, когда языки тайком перемигиваются, вступают в неосязаемые, невидимые глазу и непереводимые диалоги. Когда притоки основного русла скрыты. А больше всего ему нравится тот дерзкий дух, далекий от благоговейности, который Лансло впускает в класс.
* Вергилий. Энеида, IV, 644. Фраза относится к описанию Дидоны, которая бежит по дворцу, решив покончить с собой.
** Вергилий. Энеида, VI, 268. В переводе С. Ошерова: «Шли незримо они одинокою ночью сквозь тени».