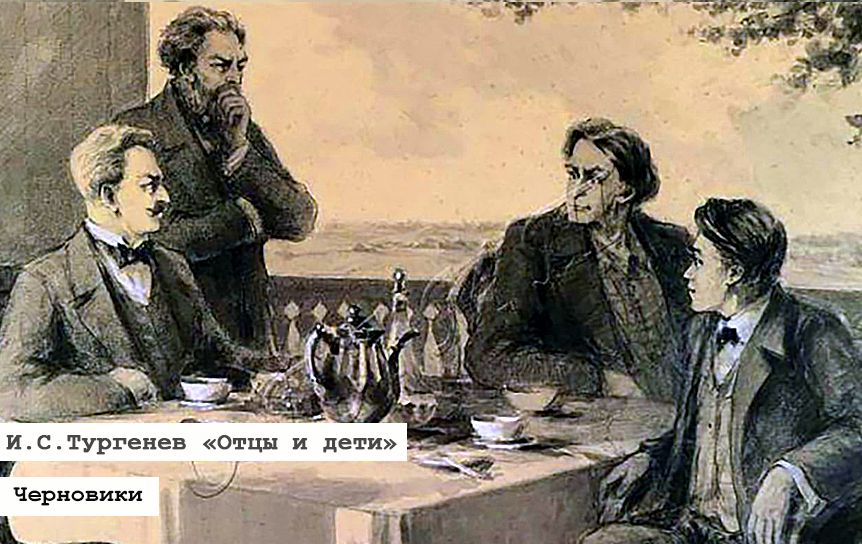Текст: Ольга Лапенкова
Вряд ли мы погрешим против истины, если скажем, что самокритика свойственна далеко не всем творческим людям. Даже среди классиков находились такие, которые воспринимали в штыки любое замечание. Что уж говорить о начинающих писателях (художниках, музыкантах et cetera) с неколебимой самооценкой. Наверняка и у вас, уважаемый читатель, найдётся пара-тройка знакомых, которые не успели толком разобраться, как всё устроено в выбранной сфере, — зато на любой выпад смело отвечают: «Я художник, я так вижу» (и это самый мягкий вариант).
Что касается русских классиков, крайне низкой готовностью слушать критику отличался, например, И. А. Бунин, который предпочитал видеть только положительные рецензии на своё творчество. В его ранних письмах нередко встречается фраза: «Хвалите, пожалуйста, хвалите!»
Начало творческого пути для Ивана Алексеевича было непростым — он далеко не сразу добился той известности, о которой мечтал. Но и потом, став уже знаковой фигурой, он как прозаик и поэт чувствовал себя одиноким, непонятым и недооценённым. Поэтому он искал всё новых и новых свидетельств того, что его творения — это действительно новое слово в русской словесности. Но даже получение Нобелевской премии по литературе его не вполне успокоило.
При этом сам Иван Алексеевич никогда не стеснялся высказывать коллегам по цеху, что он думает об их творчестве. Вот картинка, давно разошедшаяся по интернету, — и это не фейк, а реальные «рецензии».
М. Ю. Лермонтов был чуть добрее и к современникам, и к критикам. Но порой наотрез отказывался переправлять даже откровенные «ляпы». Современный писатель А. Г. Битов в статье «Последний золотой» сравнивает творческие манеры Пушкина и Лермонтова — и вспоминает любопытный эпизод из жизни последнего.
«Если у Пушкина (а позднее у Мандельштама) — звук и смысл, то у Лермонтова (а позднее у Есенина) — напев и чувство. Если Пушкин достигает духовной свободы, то Лермонтову дано ощущение некой стихийной воли. Пушкин, который заявил однажды: „Поэзия… должна быть глуповата“, — сам не обладал этим даром вдохновенной „глупости“. Этим вольным дыханием, выражающимся в небрежности стиха. Совершенство — вот что подавляло его.
- Не то у Лермонтова:
- Есть речи — значенье
- Темно иль ничтожно,
- Но им без волненья
- Внимать невозможно.
- Как полны их звуки
- Безумством желанья!
- В них слёзы разлуки,
- В них трепет свиданья.
- Не встретит ответа
- Средь шума мирского
- Из пламя и света
- Рождённое слово…
Редактор журнала „Отечественные записки“ А. А. Краевский заметил автору: „Как же можно сказать — из пламя и света? Из пламени!“ Лермонтов хотел было исправить строку: „…обмакнул перо и задумался“. „Нет, постой, оно хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю… Уж очень хорошее стихотворение“».
Впрочем, не всегда понятно, где проходит тонкая грань между неумением воспринимать критику и желанием сохранить авторский стиль. Так, на А. А. Фета, который во второй половине XIX века (бурное время общественных дискуссий, реформ, да в конце концов — отмены крепостного права!) писал про погоду и природу, разве что вёдра помоев не выливали. Как над ним измывались критики и пародисты! Такого никому не пожелаешь (об этом мы уже писали, полюбопытствуйте). Но Фет остался верен самому себе — и правильно сделал.
«Перепахивание» романа
Герой нашего сегодняшнего выпуска, Иван Сергевич Тургенев, был далёк от обеих крайностей. Будучи от природы человеком умным и деликатным, он всегда был рад прислушаться к критике, если оппонент высказывал свою точку зрения вежливо и убедительно её обосновывал. В таком случае Тургенев был не прочь даже поменять что-нибудь в черновиках.
Именно такую тонкую, методичную работу Иван Сергеевич проделал, когда готовил к изданию небезызвестный роман «Отцы и дети». Задумав изобразить бунтаря-нигилиста Базарова и его цивильного приятеля Аркадия, Тургенев написал первую версию, а затем обратился к критику П. В. Анненкову, чтобы тот, если будут на то основания, предложил внести правки.
Друг Ивана Сергеевича сделал это в лучшем виде, и благодарный романист посидел ещё месяцок-другой над романом — а потом отправил-таки в журнал «Русский вестник», где произведение и было опубликовано. Случилось это в 1862-м году — спустя год после отмены крепостного права. (Хотя проблема свободы для простого народа в произведении почти не затрагивается, этот роман оказался, конечно, более актуальным, чем рифмы восторженного Фета.)
Поскольку Тургенев «схватил» характеры героев с самого начала, переписывать бОльшую часть романа ему не пришлось. Первоначальные Базаров и Аркадий не так уж сильно отличаются от тех, которые предстают перед читателем в итоговой версии.
Так что речь в этой статье пойдёт не о радикальных правках, наподобие таких, которым подверг Лермонтов «Героя нашего времени», — а о лёгких штрихах, деталях и полутонах. Что тоже важно: одна-единственная неуместная фраза может нехило испортить впечатление. Ведь не зря существует поговорка: «Дьявол в деталях».
Четыре правки
Литературовед П. Г. Пустовойт внимательно изучил замечания, вынесенные другом Ивана Сергеевича, и в статье «И. С. Тургенев — художник слова» подытожил:
«Советы и замечания Анненкова, высказанные им в письме от 26 сентября (8 октября) 1861 г., можно разделить на политические, направленные к изменению идейного и морального облика главного героя романа, и касающиеся художественной стороны романа, психологических деталей характеров тех или иных героев. <...> К политическим советам Анненкова Тургенев относился выборочно: с некоторыми он соглашался, осуществляя их довольно своеобразно; другие — не принимал во внимание. Что же касается советов чисто художественного плана, то Тургенев считался с ними. Он верил эстетическому чутью П. В. Анненкова, и замечания о психологической логике развития характеров, о деталях поведения героев, о действенности диалогов в большинстве случаев принимал».
Суть «эстетических» претензий, которые высказывал П. В. Анненков, сводилась к следующему: понятно, что Базаров — такой же человек, как и мы все; неудивительно, что в ряде сцен он предстаёт совсем уж жёстким малым, а в других эпизодах становится будто бы помягче. Но распределены эти фрагменты текста неравномерно и не совсем логично.
Давайте рассмотрим четыре наиболее примечательных эпизода, которые Тургенев по совету товарища переделал.
Правка первая
По отношению к Аркадию, по мнению Анненкова, «первоначальный» Базаров был слишком уж мягок. Так, в 21-й главе младший Кирсанов и Базаров ссорятся из-за того, что центральный персонаж назвал дядю Аркадия идиотом. Оскорблённый племянник возмущается: «Это, однако, нестерпимо!» Но молодой доктор не собирается просить прощения, так что дело доходит до драки. И Базаров, думается, от души навалял бы принципиальному приятелю, если бы действу не помешал отец главного героя, Базаров-старший:
"Базаров растопырил свои длинные и жёсткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...
— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича <...>. — Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лёжа на земле, глядеть в небо... Знаете ли — в этом есть какое-то особое значение!
— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал".
В первоначальной версии Базаров произносил: «Вот тебе и доказательство, что до всего можно договориться. Ты меня извини». Но благодаря Анненкову Тургенев решил, что нигилисты не извиняются.
Правка вторая
Ещё один эпизод, когда Базаров в итоговой версии поступил с Аркадием жёстче, чем на страницах черновика, — сцена прощания двух друзей. Поняв, что они слишком разные люди и говорить им больше не о чем, приятели решают разойтись по-доброму, без упрёков и оскорблений. (А то, чего доброго, одному пришлось бы вызывать другого на дуэль.)
"— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений? — печально промолвил Аркадий. — И у тебя нет других слов для меня? <...>
— Есть, Аркадий, <...> только я их не выскажу, потому что это романтизм <...>. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. <...> Ну что ж? обняться, что ли?
Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слёзы так и брызнули у него из глаз.
— Что значит молодость! — произнёс спокойно Базаров".
В первоначальной версии вместо слова «спокойно» у Тургенева значилось «не без волнения». В мире искусства мелочей не бывает.
Правка третья
Также, прочитав «сыроватую» версию романа, Анненков удивился тому, что Тургенев не наделил своего героя «болезненным самолюбием, отличающим всё поколение нигилистов». Молодой доктор получался циником, но не задавакой. «Надо, чтоб в Базарове по временам или когда-нибудь проскользнул и Ситников», — наставлял друга критик. То есть чтобы Базаров случайно (а не специально) кого-то задел, поставил заведомо ниже себя самого. И желательно — того, кто ничего подобного не ожидает. Например, лучшего друга.
Тургенев с замечанием согласился. И дописал, опять же, всего несколько строк, зато каких!
"Он [Аркадий. — Прим. О. Л.] вдруг вскинул волосами и громко промолвил:
— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?
Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнёс следующее:
— Ты, брат, глуп ещё, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..
«Эге, ге!.. — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. — <...> То есть — ты бог, а олух уж не я ли?»
— Да, — повторил угрюмо Базаров, — ты ещё глуп".
Общаться в таком тоне, даже с действительно приглуповатым Ситниковым, было бы не очень красиво. А уж с преданным другом — тем более.
Правка четвёртая
И всё-таки главная претензия, которую высказал Анненков и с которой согласился Тургенев, — это замечание по поводу того, что отношения Базарова и Одинцовой должны были развиваться более бурно. Конечно, заставлять своих холодных как лёд героев обниматься и целоваться автор не собирался. Но добавить эмоций в их диалоги однозначно стоило. Правда, Анненков советовал ввести в роман какой-нибудь «сильный оборот», автор же ограничился вот таким диалогом.
"— А я, — промолвила Анна Сергеевна, — сперва хандрила, <...> потом это прошло; ваш приятель [Имеется в виду Аркадий. — Прим. О. Л.] <...> приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.
— В какую это роль, позвольте узнать?
— Роль тётки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умён... А главное, он молод, молод... не то, что мы с вами, Евгений Васильич.
— Он всё так же робеет в вашем присутствии? — спросил Базаров.
— А разве... — начала было Анна Сергеевна <...>".
«Перепахав» роман, Тургенев заставил Анну Сергеевну — между прочим, несколько лет назад овдовевшую — в завуалированном виде сказать Базарову что-то вроде: «Ой-ой-ой! Поезд уходит! Часики тикают! Давайте же, уважаемый Евгений Васильевич, скорее предпринимайте что-нибудь. Я хоть и боюсь строить близкие, доверительные отношения, но если вы признаетесь мне в любви, то я, пожалуй, рискну!» Но главный герой не пользуется этим шансом, а вместо этого зачем-то намекает Одинцовой, что Аркадий тоже в неё втрескался.
Чтобы понять, что ничего хорошего с таким подходом не получится, быть Анненковым (или другим великомудрым критиком) совсем не обязательно.