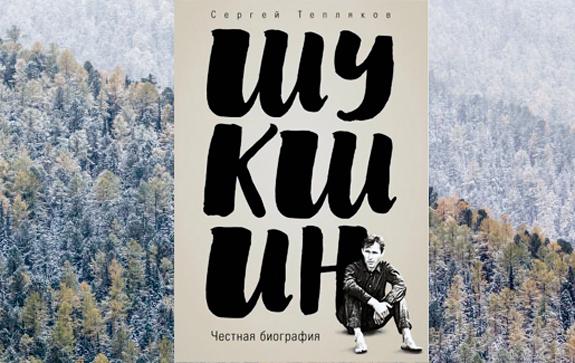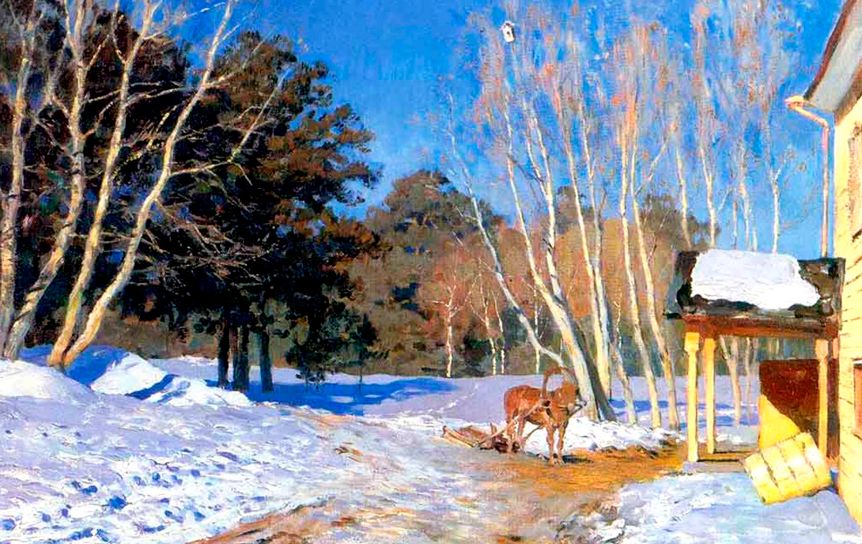Текст: Андрей Васянин
Коллаж: ГодЛитературы.РФ
Обложка взята с сайта издательства

В книге алтайского журналиста и писателя Сергея Теплякова, вышедшей в дни 90-летия Шукшина в «Рипол-Классик», практически нет выспренних слов «о великом сыне Алтая». Собранные историками и филологами, найденные в книгах Шукшина, раскопанные автором в местных архивах документы, свидетельства о жизни и творческой работе Василия Макаровича, воспоминания друзей и коллег, сведенные в одно повествование, позволили автору создать плотный, подробный, откровенный и очень «личный» текст об одном из главных героев советской культуры. Человеке трудном и прожившем очень трудную жизнь, падавшем и кающемся, всегда пытливо и болезненно размышляющем о том, что видел когда-то и видит сейчас вокруг себя, и рвущемся делиться на экране и на бумаге тем, что знает.А Сергей Тепляков сегодня делится с нами всем, что он знает о Шукшине.
С. Тепляков «Шукшин. Честная биография»
М., Рипол-Классик, 2019
КНИЖНЫЙ ЗАПОЙ
«…Взрослевший Василий читал все больше. Читал по ночам, укрываясь одеялом, при свете самодельной лампы-жировушки (картофелины с вырезанной серединой, которую заполняли свиным жиром и вставляли туда фитилек), и однажды спалился в самом прямом смысле — уснул и прожег одеяло. Летом уплывал читать на острова посреди Катуни, давал о себе знать, только когда мать звала его с другого берега. Ночью пытался читать при свете луны — подсвечивая себе кастрюлей! (В 1967 году на съемках фильма о Бийске в пасмурный день он вспомнит об этом и посоветует применить банки из-под кинопленки в качестве отражателей света.) Часть дома, в котором жили Шукшины, занимал в то время секретарь райкома Георгий Михайлович Володин (сестра Наталья Макаровна говорила, что он жил у них на квартире). Видя такой «книжный запой», он дал Василию светильник получше жировушки. Правда, точных сведений о его конструкции нет: Наталья Зиновьева в одном случае говорила, что это была баночка с карбидом , в другом — баночка с карболкой. Как-то летом в школе делали ремонт и в коридор выставили книжный шкаф. Василий научился таскать книги, не открывая дверцы: «Я потом приворовывал еще по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой «Ни с чем я такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.., . Эти книги сдавать не надо было, так что Василий оставлял их у себя — складывал на чердаке. Читал что вытащит, все подряд, «вплоть до трудов академика Лысенко». В конце концов пропажа обнаружилась. Подумали, что плотники извели книги на самокрутки. Плотники отнекивались, но им никто не верил. Тут бы для закругления образа нашему герою выйти и во всем признаться, но нет — он этого не сделал и не мучился: «Раньше всего другого, что значительно облегчает нашу жизнь, я научился врать». За чтением не оставалось времени на учебу. Пошли двойки и тройки. Мать узнала об этом. Годы спустя она говорила, что будто бы классный руководитель Полунин успокаивал ее: «Не надо его ругать, пусть читает, у него способности». Но, видно, не успокоил. Вдобавок «некоторые соседи говорили, что Вася может свихнуться от чтения — дескать, такие случаи были...» — рассказывала сестра Наталья .
В конце концов мать объявила чтению войну. Потом Шукшин признавал ее правоту: «Я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе», но это потом, а тогда исхитрялся как мог: «вырывал середину из задачника, вставлял вместо нее какую-нибудь художественную книгу и так читал». Но Мария Сергеевна заметила, что он слишком скоро перелистывает страницы — разве так быстро задачи решаются?
«Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя...»
— вспоминал Шукшин. У Василия на чердаке имелся запас из книг, натасканных из шкафа. Он начал читать их, но мать обнаружила тайник, и, говорят, сожгла книги.
К счастью, обо всем узнала Анна Павловна Тиссаревская, учительница, из эвакуированных ленинградцев, которых в селе очень уважали. Она приехала в Сростки осенью 1941 года с двумя дочерьми, семи и девяти лет, и двенадцатилетним племянником-сиротой. Эвакуировались прямо из леса, в котором скрывались от бомбежки, так что вещей захватить не успели, только детские пальто, которые в Сростках выменяли на картошку. «Жили они в малюсенькой комнатке, где даже стол негде было поставить. На топчане спали, ели, уроки готовили. Голодали, видать, сильно. На урок придет — под глазами аж синё, да и по голосу слышно — голодная. Трое детей, дороговизна, а заработки известно какие...» — так Василию Гришаеву рассказывала о Тиссаревской Валентина Николаевна Стебунова, троюродная сестра и одноклассница Василия Макаровича. В рассказе «Гоголь и Райка» Шукшин пишет о ней, правда, без имени — забыл.
По воспоминаниям Александра Григорьевича Куксина, друга и однокашника Василия Макаровича, Тиссаревская каждое утро перед началом занятий читала школьникам сводки Совинформбюро. Матери Тиссаревская объяснила, что ничего плохого в чтении нет, а Василию составила список книг — чтобы от чтения был толк. Конфликт разрешился. Мария Сергеевна говорила, что даже выписала сыну по почте двенадцать книг: «Он так рад был, Господи!». В 1945 году Тиссаревская уехала, и следы ее затерялись. Но Василий Федорович Гришаев, опытный архивист, во второй половине 80-х годов нашел ее в Ленинграде, списался с ней, спрашивал, что за книги она рекомендовала своему ученику Васе Шукшину. Сюжет закручивался красивый, но не закрутился: оказалась, Тиссаревская ни Шукшина, ни списка не помнила.
«В материалах о Василии Макаровиче Шукшине я встречала свою фамилию. Лицо его (фото в газете „Смена“) мне показалось знакомым. Но что я могу сказать? Момент помощи Васе по подбору литературы мне не запомнился, так как таких моментов в моей педагогической практике было много». Другой бы человек «вспомнил» все и даже больше, но Тиссаревская предпочла не лукавить, ответила как есть: «Никогда от помощи ученику не отказывалась, и разве можно все вспомнить? Да и зачем? Помогла ученику, и чудесно. Так вот, если Васе Шукшину чем-то помогла, что ему пригодилось в жизни, вот это и есть награда моя»*. Тут надо понимать, что список одно, а сельская библиотека — другое. Что именно читал Шукшин?
Александр Григорьевич Куксин вспоминал, что видел у него «Таинственный остров» и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, прозу Лермонтова, «Маленького оборвыша» Гринвуда Джеймса (очень популярная в те времена книга о детях-бродягах в Лондоне), «Алтайские робинзоны» Анны Киселевой (повесть о детях, волею судьбы оказавшихся в алтайских горах), и что по списку Тиссаревской Василий читал Горького. Сестра Таля вспоминала Островского, Некрасова, Достоевского и Гоголя — «толстые книги, такие теперь не издают».
ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ
У Пушкина — Михайловское, у Толстого — Ясная Поляна, у Шукшина — 34 квадратных метра в Свиблово. Он мечтал о своем кабинете с большим столом:
«Хочу стол, как у Ромма, — большой, и чтобы завален был книгами, бумагами. Хочу кабинет, чтобы можно было от всех закрыться».
Пока же творческая кухня Шукшина — именно кухня, тем более после того, как одна за другой родились дочки. Он всегда носил с собой тетрадку, в которую записывал разные идеи, мысли, завязки сюжетов. Но, когда бывал в Москве, основная работа шла здесь, между плитой и холодильником. В работе он уходил в себя настолько, что весь остальной мир переставал существовать. Лидия Николаевна однажды мыла пол на кухне, Шукшин писал за столом. «Я сказала: „Вася, подними ноги“. Он поднял ноги, сидел, писал. Я вымыла пол, убралась и тогда на него посмотрела. Вася все пишет и пишет, а ноги все также вытянуты». Его время — поздний вечер и ночь. Работу заканчивал под утро. Первым слушателем была Федосеева. Он будил ее и читал. «Конечно, дети, обеды, ужины... Он всегда спрашивал: как я, готова слушать? Вообще-то мне все нравилось, а когда начинала критиковать немного, он говорил: „Ну все, иди спать!“ Но иногда все же признавал, что я права...» Творческий метод Шукшина — начинай писать, а вдохновение подтянется. Если оно запаздывало и работа не шла, он все равно не вставал из-за стола — ждал, думал, записывал свои мысли. В восьмом томе собрания сочинений Шукшина опубликованы 136 записей — о великом, смешном, страшном и странном. Например, о том, как он работал над текстами: «Иногда, когда не пишется, марширую по комнате. Особенно это помогает в гостиницах». А вот еще: «Где я пишу? В гостиницах. В общежитиях. В больницах». И еще: «Я, как пахарь, прилаживаюсь к своему столу, закуриваю — начинаю работать. Это прекрасно»
Самые дорогие моменты. 1. Когда я еще ничего не знаю про рассказ — только название или как зовут героя. 2. Когда я все про рассказ (про героя) знаю. Только — написать. Остальное — работа». Он замечает за собой: «Иногда — не так часто — не поспеваю писать. И тогда — буковки отдельно и крючками». Надо отметить, что обычно почерк у него четкий, разборчивый. Но если порой он переходит на «крючки», значит, наваливается то, что обычно называется вдохновением: когда мысли как лавина, и каждая кажется гениальной. Правда, это бывает «не так часто» — за этой оговоркой чувствуется сожаление. «Я знаю, когда я пишу хорошо: когда пишу и как будто пером вытаскиваю из бумаги живые голоса людей». А вот о том, что он пишет: «Вот рассказы, какими они должны быть: 1. Рассказ-судьба. 2. Рассказ-характер. 3. Рассказ-исповедь. Самое малое, что может быть, — рассказ- анекдот». «Сюжет? Это характер. Будет одна и та же ситуация, но будут действовать два разных человека, будет два разных рассказа — один про одно, другой совсем-совсем про другое». Тут он изобретает велосипед: «Придумай героев, а остальное они сделают сами, ты только записывай». Не может быть, чтобы Ромм не говорил ему нечто похожее, когда заставлял писать рассказы. Но придумать героев — одно, а заставить их жить — другое. Характер — это важно.
У Шукшина много героев с характером. Но он видит, что чего-то в них не хватает — и им, и ему. И однажды понимает: «Ничего, ничего, вот посмотрите: душа — это и будет сюжет». Это открытие. Он нашел точку опоры, с которой перевернет мир. Он понял, что человек и душа не синонимы, они различаются, как первая сигнальная система от второй. Сравните рассказы «Владимир Семеныч из мягкой секции» и «Стенька Разин». В первом характер, жесткий, колючий, сам себе отвратительный. Во втором — душа, человек. Или Глеб Капустин из знаменитого рассказа «Срезал» — характер есть, а души нет. Душа поправляет человека в его поступках, и только с этими поправками он Человек. «Нет, литература — это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения даже самого высшего порядка», — говорит Шукшин, будто спорит. Да он и правда спорит — с партией и правительством, которые отвели литературе роль обслуги, с коллегами, подавляющее большинство которых эта роль вполне устраивает.
«Да, литературы нет. Это ведь даже произнести страшно, а мы — живем!» — припечатывает он. «Сто лет с лишним тянули наши титаны лямку Русской литературы. И вдруг канат лопнул, баржу понесло назад. Сколько же сил надо теперь, чтобы остановить ее, побороть течение и наладиться тащить снова. Сколько богатырей потребуется! Хорошо еще, если баржу не расшибет совсем о камни», — записал он в 1966 году. Остановить уносимую вспять баржу русской литературы можно одним способом: «Макай перо в правду. Ничем другим больше не удивишь». Но охотников нет.
«Восславим тех, кто перестал врать», — пишет Шукшин.
Но фамилий не называет. Не потому ли, что их нет?
1. «Судя по всему, работает только дальнобойная артиллерия (Солженицын). И это хорошо!» Это запись 1967 года, в мае которого Солженицын опубликовал письмо IV съезду Союза советских писателей, предлагая потребовать отмены цензуры. Говоря «дальнобойная», Шукшин, должно быть, имеет в виду, что Солженицын бьет не по окопам первой линии, а по самой главной опоре идеологии — цензуре. Солженицына начали травить в газетах, в 1969-м исключили из Союза писателей. В том же году Шукшин записал: «Ложь, ложь, ложь... Ложь во спасение, ложь во искупление вины, ложь — достижение цели, ложь — карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой». Если это не непосредственная реакция на новости о Солженицыне, то ощущение времени.
2. «В рассказах В. Некрасова происходит то, что в них происходит, но в ваших-то, Марковы, Баруздины, совсем же ничего не происходит, потому что все — ложь и беспомощность», — записывал он в 1971 году. С начала 60-х, с момента публикации фельетона Мэлора Стуруа «Турист с тросточкой», Некрасова по нарастающей разносили в советской прессе за то, что много бывал за границей, что не видел там ничего того, что тогда полагалось видеть советскому туристу, а тем более писателю, бойцу идеологического фронта. После того как Некрасов в 1968 году подписал письмо в поддержку украинского диссидента Вячеслава Черновола, газеты перешли на напалм. Шукшин эта история тоже задевает, но он дает себе волю только на полях черновиков. «Черт возьми! — в родной стране, как на чужбине», — прорывается у него. И потом еще: «Разлад на Руси. Большой разлад. Сердцем чую». «В нашем обществе коммуниста-революционера победил чиновник-крючок», — горько признает он. «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству». «Бить и бить» — это терминология съездов. Шукшин понимает, что бить некому — он один. «Один борюсь. В этом есть наслаждение. Стану помирать — объясню», — записывает он
Шукшин нашел слово чудик еще до фильма: в 1967 году в № 7 журнала «Новый мир» вышел рассказ «Чудик» — киномеханика Василия Князева так зовет жена, потому что с ним постоянно случается то, чего не может случиться с рассудительным человеком. Он собрался в гости к брату на Урал. Покупая подарки, увидел на полу в магазине бумажку в 50 рублей. «Хорошо живете, граждане! У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Он рад и тому, что нашел, и тому, что не присвоил бумажку, оставил у продавца в расчете, что тот, кто потерял, обнаружит пропажу, прибежит, обрадуется, что есть еще в мире честные люди. Его душу греет то, что это вот он и есть честный человек! И тут, выйдя на улицу, он понимает, что купюра — его! Но как теперь вернуться? Как сказать?
Не поверят ведь. У чудика выбор — идти в магазин и как-то объясняться с продавцом или вернуться домой и как-то объясняться с женой. Он выбирает второе.
Василий все же летит к брату, но там так же действует не в лад и невпопад и в конце концов возвращается домой. «Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки».
Он вернулся — не столько телом, сколько душой». Чудик нелеп, но наверняка узнаваем. Ведь и история с купюрой не придумана — сам
Шукшин так же «нашел» свои же деньги, оставил в магазине, а потом посовестился за ними идти.
Чудик не совпадает со своей женой, с женой брата, но мы понимаем, что это как раз не его вина, мало кто мог бы совпасть с такими людьми. Шукшин дает понять, что чудик есть в каждом или почти в каждом, надо только не стесняться снять ботинки и побежать по теплой земле босиком. Да вообще не стесняться жить так, как просит душа. Герой рассказа «Упорный» Моня Квасов, узнав, что вечный двигатель невозможен, «сразу с головой ушел в изобретение такого „вечного двигателя“, какого еще не было. Он почему-тоне поверил, что такой двигатель невозможен».
Митька Ермаков из одноименного рассказа в своем воображении нашел травку, которая лечит рак, и стал главным человеком на земле. Воображаемая жизнь для него ярче и реальнее настоящей. Николай Николаевич Князев из рассказа «Штрихи к портрету» пытается постичь, в чем причина несовершенства мира. Он телемастер и философ: чинит телевизоры, но хочет починить государство. Он пишет трактат под названием «О государстве», как у Цицерона. Цицерон, благодаря уму и речам, выбился в большие люди. Князев, скорее всего, тоже не прочь, но одни его не слушают, другие бьют, а когда он решает отправить свое сочинение «в Центр», на почте доходит до скандала и драки. Это тот же Моня Квасов, но уже измученный непониманием.
Ветфельдшер Козулин из рассказа «Даешь сердце!», узнав по радио, что в Кейптауне человеку пересадили сердце, на радостях выбежал на улицу и отсалютовал из своего ружья. Но его не поняли, вызвали в сельсовет, спрашивают — что? Как? Откуда узнал? По радио? А какое это радио работает в три часа ночи?! Показательно, что сразу после это вопроса Козулин говорит: «Я — шизя!» Ночью можно было слушать только «голоса» (так в народе называли западные радиостанции, вещавшие на СССР, по имени главной из них «Голос Америки»). Мгновенная реакция Козулина показывает, что этот чудик — жизнью мятый и ученый.
До Шукшина многие писатели создавали литературного героя, объяснявшего человека и через него — эпоху. В дореволюционной традиции это были либо лишние люди (Онегин,
Печорин), либо особенные (Рахметов). В советской традиции полюса изменились: с одной стороны — Корчагин, Маресьев, мудрые партсекретари разных рангов, с другой — солженицынский Иван Денисович.
Когда эпоху объяснял Корчагин, это нравилось. Ивана Денисовича терпели. Но тут — чудик! Больше пятидесяти лет создавали человека нового типа (одно из условий построения коммунизма), а получился чудик?
Думаю, Шукшин не задумывал диверсию.
Его чудики —люди, в которых беспокоится душа. И разве это он виноват, что в 60-е они выглядят странно?
«Нам бы про душу не забыть» — это шукшинская максима, одна из самых известных. Для него с душой — свой, без души — чужой. Шукшин борется с миром чужих тем, что расширяет мир своих. Он населяет мир партсъездов и соцсоревнований вот этими странными людьми.
Рассказы и фильмы Шукшина — это паспорта, раздаваемые «чудикам», не киношным, реальным, которых, он знал, их еще много было тогда на Руси. Он утверждает их в праве
жить не как все, идти не в ногу. Алеша Бесконвойный глядит на горящие в печке дрова
и думает: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково...»
Окружающие не понимают чудиков. Старик спрашивает кузнеца Кольку: «Какая тебе польза, что ты эту куклу вырезал? Не можешь ответить?!» Тот и правда ничего не отвечает: если человек не понимает таких вещей, не объяснишь.
Шукшина тоже поняли далеко не все. Чудики для большинства, в лучшем случае, блаженные.
Василий Рябчиков,земляк и друг Василия, рассказывал, как уже после его смерти в Сростки приехала студентка из МГУ, собирала материал для курсовой о Шукшине. «Одно мне непонятно: почему-то у Василия Макаровича во всех рассказах герои — чудики», — эти слова девушки показались Рябчикову обидными: «Так она это сказала: „чудики“, что я понял так: „ненормальные“.
Меня это возмутило. Ведь она ничего не поняла в его рассказах: что чудики — это обычные люди, что все мы немного чудики, в то или иное время бываем чудиками». Рябчиков ответил: «А у нас здесь все такие: через дом дурак, через два — гармошка». Студентка не поняла, обиделась и ушла. Шукшин видит, что тело у народа есть, а души в нем все меньше. На съемках «Странных людей» произошел показательный в этом смысле эпизод. Снимали сцену проводов в армию того самого гармониста, чья игра так докучала Матвею. По задумке, народ должен петь «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!» Собрали сто человек массовки, начали, голова колонны поет, а хвост — нет! Оказалось, люди забыли и песню, и чувство, с каким она поется.
Друг Шукшина актер Юрий Скоп, игравший в новелле «Дума» кузнеца-скульптора Кольку, вспоминал: «Макарыч яриться начал... Пленка горит, а в результате — чепуха сплошная.
Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и как рявкнет:
— Вы што?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы што?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы...
И начал:
— Последний нонешний денечек... — зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что берется? И вздохнула деревня, и прониклась песней... Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины толковали: „Вот уж спели так спели! Ах...“» [Шукшинские чтения 1984: 89]._
Самая впечатляющая сцена фильма — безусловно, таран. Узнав, что бандиты убили Егора, брат Любы Петр Байкалов мчит на грузовике, нагоняет их и сметает вместе с машиной в воду! Интересно, что этой сцены могло и не быть.
«Он планировал, чтобы Егор Прокудин покончил с собой, а ему запретили сделать самоубийство, а сделали, что якобы его дружки бывшие убили. А главное было — невозможность встроиться в новую жизнь. Это было расплатой и наказанием за то,что он предал деревню, мать»,
— о таком финале говорил Шукшин Науму Клейману [Голицына]. Мы помним, что еще со времени Володи Китайского в самоубийстве для Шукшина кроется тайна — дразнящая, затягивающая. Егор сам себя судил, сам приговорил и сам казнил.
Я предугадывал недовольство таким финалом и обставлял его всякими возможностями как-нибудь это потом „объяснить“. Объяснять тут нечего: дальше — в силу собственных законов данной конкретной души — жизнь теряет смысл. Впредь надо быть смелее. Наша художническая догадка тоже чего-нибудь стоит» [Шукшин 2009: 8, 58–59].
Однако у такого решения есть и слабое место: получается, что Егор отринул все хорошее, что сделали для него люди. И пусть он виноват, но не слишком ли жестоко наказание?
И не правильнее ли хотя бы попытаться все исправить, делая добро? Да и кончать жизнь самоубийством — не по-божески.
По-божески — искупать вину. Возможно, Шукшин об этом много размышлял. Но показательно, что хеппи-энд в любом случае не предполагался: Егор обречен.
Как зрителю мне жаль Егора. Но Шукшин не зритель, он режиссер, он понимал, что счастливый финал не произведет должного эффекта. Получится, что Егор просто отсидел, вышел и исправился. Проймет ли читателя такая история?
По протоколу первого обсуждения сценария, состоявшегося 30 января 1973 года, видно, что самоубийства в сценарии не было, но, похоже, не было и тарана. Судя по всему, бандиты убивали Егора и уходили безнаказанными. На обсуждении прозвучало мнение директора студии «Мосфильм» Сизова: «Не делать безнаказанным отъезд». В феврале было еще одно обсуждение, на худсовете. Одна из выступавших сказала: «Я смущена финалом и сейчас. Убийство — это мафия. Существует ли у нас мафия? Это страшно. Егор идет на заклание, он признает за Губошлепом право бить его». Другой выступающий на это ответил: «За смерть Егора можно расплатиться гибелью тех, кто виноват в этом».
Можно предположить, что после этого Шукшин переделал финал — появилась сцена тарана.
Таран Шукшин не придумал — как всегда, он взял его из жизни. В 1967 году во время съемок фильма о Бийске оператор Владислав Александрович Ковердяев рассказал ему случай. По Барнаулу шла колонна самосвалов ЗИЛ-130. Один заглох, водитель стал копаться в моторе. Подъехала «Волга», попросили бензину. Водитель дал. Бензин залили и попросили еще, но получили отказ. Тогда пассажиры «Волги» поколотили шофера и слили бензин из ЗИЛа, а остаток выплеснули на водителя, бросили спичку и уехали. Мужчину охватило огнем, но он не растерялся — упал на землю, покатался и сбил пламя. После этого сел в машину и поехал. «Догнал, двинул эту „Волгу“: у нее аж колеса передние в разные стороны. Троих насмерть захлестнул, один с переломом позвоночника попал в больницу. А когда подъехала милиция, оказалось, эти, на „Волге“, магазин ограбили или еще что».
Эта история запала в душу Шукшину и, работая над «Калиной красной», он ее вспомнил. Начали подготовку: генеральный директор «Мосфильма» Сизов направил письмо заместителю министра автомобильной промышленности СССР Башинджагяну (вопрос решался в самых верхах!) с просьбой посодействовать. Аварию предполагалось разыграть на Дмитровском автодроме. Интересно, что вместо «Волги» в письме говорилось о «Москвиче» (может, хотели сэкономить?). Однако когда приехали в Белозерск, стало ясно, что никакой автодром не нужен. Увидев реку Шексну и два ходивших по ней парома, Шушкин представил сцену автокатастрофы по-новому.
Для выполнения трюка из Москвы выписали каскадера Корзуна. По воспоминанию Заболоцкого, он несколько раз приезжал в Белозерск для изучения местности, поражая всех своей иностранной машиной.
«Задумывалась сцена так: на узкой насыпи причала стоит такси, в машине — манекены бандитов; паром с людьми на середине реки; появляется на бешеной скорости самосвал, ударяет такси, а сам повисает на при паромке-причале», —вспоминал Анатолий Заболоцкий . Наступил день съемки. Трюкач был в машине, операторский кран на озере, на пароме метрах в пятнадцати от причала. Толпы зевак стояли и на берегу, и на пароме. «Корзун отдает последние указания. Смотрит на него вологодский люд, как на Гагарина», — рассказывал Заболоцкий.
Наконец каскадер надавил на газ, ЗИЛ заревел, зафырчал во всю мощь. Надо знать эту машину — огромная, мордатая, массивная, на скорости она была похожа на ошалевшего быка. В общем, сцена должна была стать особенной. По словам Заболоцкого, собирались переплюнуть Голливуд. Однако Голливуд в очередной раз устоял. Корзун, видимо, запаниковал, по мере приближения к «Волге» скорость грузовика стала снижаться. В результате каскадер, «клюнув машину, укатил ее в воду». Корзун попросил сделать еще один дубль. Пленки в обрез, но Шукшин решил — ладно! Нашли еще одну «Волгу», быстро раскрасили ее под такси. Корзун снова разогнался и снова запаниковал и сбросил газ, грузовик ударил «Волгу» слабее, чем в первом дубле.
У Корзуна сдали нервы. «От повторного выполнения трюка отказался», — говорилось в срочной телеграмме, которую Шукшин и директор картины Крылов направили 28 июня на
«Мосфильм».
Начали срочно искать нового трюкача. Сесть за руль ЗИЛа вызвался таксист из Череповца. Имя его история кинематографа не сохранила. Чтобы трюкач мог выпрыгнуть, с ЗИЛа сняли левую дверцу. С левой стороны дороги уложили тюки с соломой. Придумали, как закрепить руль, чтобы машина продолжала ехать уже без водителя. Сцену снимали 2 июля. Таксист разогнался хорошо, даже слишком хорошо, запоздал с прыжком, на мешки с соломой не попал и сломал обе ноги.
ЗИЛ с зафиксированным рулем поехал не туда, сшиб столбики на обочине, взлетел и упал в воду, не задев «Волгу». Немая сцена. Больше нет ни пленки, ни машин. Делать нечего, сняли выныривающего из воды Петра (Алексея Ванина), «и этобыл самый убедительный кадр из всего материала катастрофы», — вспоминал Анатолий Заболоцкий. Только вечером режиссер с оператором поняли, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
Если бы трюк удался, то такси почти наверняка долетело бы до парома, заполненного людьми.
«Была бы массовая гибель», — отмечал Заболоцкий».