
Текст: Николай Долгополов
Мемуары – не исповедь, где будешь проклят за всякое слово лжи, и не учебник истории, заведомо написанный не по тобою сочиненному сценарию. Это исконно личное, которое при неизбежном приближении к Ваганьковскому или любому другому последнему прибежищу хочет рассказать каждый, кому есть о чем поведать.
Здесь я должен был бы обязательно написать нечто абсолютно справедливое вроде: «И Кириллу Привалову написать есть о чем». Но дайте же еще немного порассуждать о мемуарном жанре, доступном ныне всем и каждому. Любой, имеющий даже относительно скромные средства, может накатать о себе что и как угодно, отнести в издательство и выпустить книгу любым тиражом, какой только по карману. Издатели с благодарностью примут рукопись (ведь оплачена), а после отбытия заказчика заведут меж собой привычный разговор: хорошо (или плохо) написано, но кто будет в наше-то время читать? Разве что друзья автора.
И здесь я снова должен по всем законам жанра присовокупить: «Эта печальная участь «Уходящей натуре» Привалова не грозит». Не грозит, не грозит, однако я совсем о другом. Что вообще представляют собой любые воспоминания? Изложение неординарных событий, главки о встречах с великими и обязательные - помимо воли автора - вставки о собственных предках: во что бы то ни стало благородного дворянского происхождения… Но не только, совсем не только. Рассказывая о чем-то давнем, человеку XXI столетия малоизвестном, литератор пытается на свой лад оценить случившееся с ним и со страной. С Приваловым, а заодно и со всеми нами, описываемые события случились в начале второй половины прошлого столетия. И на данный хрупкий момент, несмотря на пару десятилетий нового века, они, пожалуй, важнейшие в современной российской истории. Как на них смотреть? Кирилл видит их из сегодня, оценивает, может и невольно, нашими сегодняшними понятиями, но не отступает и от своих прежних взглядов.
Что приближает его мемуары к читателю интернетного века. Хочется надеяться, что и этот homo-internetus, абсолютно все в жизни знающий, возьмет да и окунется в не менее бурную жизнь минувшую.
Начнем с великих героев большой мировой, а не чисто французской политики - Де Голля, Миттерана, Ширака, да и министра иностранных дел Дюма. Личное общение собственного корреспондента во Франции Кирилла Привалова с последними тремя – вот уж действительно уходящая натура – поможет понять, какие столпы правили Францией в относительно недалекие по историческим меркам времена. И сравнить их с уже знакомыми нам по новому веку хорошистами и троечниками макронами и прочими саркози, пришедшими великим на бесславную смену.
«Французские» главы удивят даже гордецов, считающих себя франкофонами-всезнайками. Хотя не поспоришь, что «Уходящая натура» - это гимн франкофонии. В это открытое и совсем не тайное сообщество дозволяется вступить всем, и не будь я уже франкофоном, обязательно пополнил бы эти нестройные ряды.
Но не в одних французах дело. О тех событиях, которым я вроде бы был свидетелем (а порой и участником), расположившийся на привал Привалов рассказывает с неведомыми даже мне - так скромно и напишу - подробностями. Детали - в них, как объясняли с детства, все и кроется. А в книге они ярчайшие. Оказывается, даже сидя в благополучнейшей тогда Франции, можно было разобраться в событиях неудавшегося августовского путча 1991-го. Или понять все тайные пружины взлета-падения Горбачева и вознесения Ельцина. Неизбежность: будущее одних государств выковывается и в других странах тоже.
А для многих высочайшей точкой книги станет сага о русской эмиграции, вот уже сколько лет накатывающейся на Францию мощными волнами. О последней, сугубо олигархической, в книге, слава Богу, мало. А вот первую - как мы ее называли, "белоэмигрантскую" - Привалов знает, как никто другой. И это твердое мнение, вынесенное не тогда, не за те пять с лишним лет, что я трудился в Париже рядом с Кириллом Борисовичем. Как раз тогда это и было неясно. Сложно было мне, гражданину СССР, приехавшему собкором во Францию в 1987 году, оценить, какой огромный вклад внес автор «Уходящей натуры» в изучение и осмысление огромнейшего пласта русской культуры, волею судьбы родину покинувшего.
Разумеется, есть вещи в книге, с которыми я бы поспорил, аргументированно не согласился. Ведь каждый российский франкофон любит Францию и родную Россию по-своему. Совсем по-иному вижу я роль Горбачева: не приди бы он, не смени формацию, так и оставаться бы «Уходящей натуре» неизданной, а если и изданной, то в каком-нибудь «Посеве». Но это уже вечный спор, которому при нашей с Приваловым жизни не разрешиться. Тут с десятилетиями и веками придет другой судья: рассудит история. Мне лично неприятен напрашивавшийся на интервью французский контрразведчик Константин Мельник. Но у многих моих коллег по перу эта фигура вызывает симпатию – прекрасный рассказчик, да и человек весьма неглупый. Чем и был страшен. Однако о симпатиях не спорят, и даже этот одиозный для меня персонаж выписан Приваловым с удивительным изяществом.
Я догадываюсь, что в книге не все сказано и договорено. Испытал на себе и своих книгах: вроде бы выложил всю правду, но кое-что осталось за кадром в тщетной надежде, что вот настанет время, и уж тогда… Но, противореча себе, уверен: это время никогда не придет. А написанное - это не ложь, не полуправда. Это то, что мечталось дать почитать друзьям и незнакомым. Ведь не зря иезуиты утверждали, что правда - это то, о чем твоему собеседнику приятно было бы услышать.
Натура пока не ушла. Она только уходящая. Уходит, к счастью, медленно. Оставляет следы, как и эта книга.
Привал без границ. Метаморфозы уходящей натуры. - СПб.: Алетейя, 2021
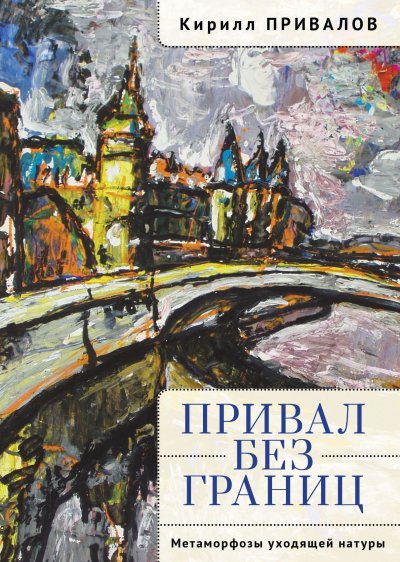
Как-то я спросил у студентов в университете, какие жанры журналистских публикаций они знают. Никто не вспомнил фельетон или реплику, но все назвали интервью. Это правда, оно остается наравне с заметкой, пожалуй, самым востребованным жанром грустной сегодняшней журналистики.
За почти полвека журналистской практики я сделал, наверное, 300 или 400 интервью. Может, больше. Никогда не считал… Есть такие, которыми я горжусь, есть и такие, о которых не хочется вспоминать. Например, самое дурацкое и тяжелое интервью было у меня с топ-моделью Кейт Мосс. Я должен был написать его для «Семи дней» в дни фестиваля фильма в Канне. Признаюсь, сам бы я никогда не выбрал такую героиню для моего материала, но редакция заказала мне подготовить с ней интервью, и делать было нечего. Включил все свои связи, чтобы пробиться к жрице от-кутюр, и, в конце концов, мне это удалось. Зато – потом! Я добросовестно пытался настроиться на встречу с музой моды унисекс: интернета в широком пользовании тогда еще не было, и я пошел в Канне в общественную библиотеку. В зале периодики там было немало бульварных изданий, но все, что я находил на их страницах о Кейт Мосс, было посвящено исключительно ее любовникам и многочисленным скандалам вокруг. Негусто! Не накопав практически никакой фактуры, необходимой для постановки вменяемых вопросов для интервью, я – тем не менее – отправился в двенадцати часам (так было заранее договорено с агентом манекенщицы) в гостиницу к мадмуазель Мосс.
Это был дорогущий отель-палас на живописном мысе между Канном и Ниццей, совсем недалеко от виллы Бориса Березовского. Уже на этаже, где остановилась топ-модель, видно было, что ночью, точнее – даже утром, здесь происходило нечто веселое и, скорее всего, весьма шумное. Чем ближе я подходил к номеру звезды, тем больше было выставлено вдоль стен «тачанок» с мусором, который горничные собрали в люксе звезды, но спустить на лифте еще не успели. В проволочных тележках лежали груды пустых бутылок и банок из-под тоника и колы... В подносах на колесах громоздились пирамиды грязных блюд и тарелок, бокалов и стаканов… Отдельно возвышалась прямо на полу башня из пепельниц в окурках с кольцами помады… Мне показалось, будто сладковатый по-голландски аромат фиесты, затянувшейся до утра, продолжал витать в морском воздухе.
Дверь открыла сама Кейт в эфемерной ночнушке, неуверенно держащаяся на стройных ногах. Но мне было не до них, столь разрекламированных в глянцевых журналах. Топ-модель пребывала явно не в идеальной «спортивной форме». И вообще, без подчеркнуто яркого, брутального макияжа, неразлучного с Мосс на фотографиях, она была мало узнаваема. Ничего звездного, обычная барышня, каких встретишь сотнями в любом городе. Отсутствие грима компенсировалось черными очками на пол-лица.
Кейт плюхнулась в глубокое кресло и застыла в изнеможении. Журналист - то есть, я - ее раздражал, и она этого не скрывала… Натурально, ни на один из моих вымученных вопросов «за жизнь» модель ничего не ответила, кроме: «Да» или «Нет». Звезде глянца было не до меня. А мной обуревало странное настроение: с одной стороны, я был возмущен и обижен (какого хрена я изгаляюсь перед этой похмельной, обкуренной цацей!) а с другой – в глубине души мне было зверски завидно: классно девица оттянулась, погуляла, наверняка ей есть, что вспомнить о вчерашнем!
В общем, если по Булгакову, то я ушел от тусовой звезды холодный, как собачий нос. Ничего похожего на интервью у меня, ясное дело, не получилось да и не могло получиться, наверное. А в редакцию я передал сплошную гонзу («гонзо», или «гонза», так в журналистике называется прием, когда репортер выступает не как автор материала, а как непосредственный участник событий; когда журналист пишет не о своем герое, а о том, что окружает его, обо всем и не о чем, как бы изнутри события)... Получился откровенный стеб, по-нашему. Как говаривали репортеры доброго старого поколения: «Картинки с выставки».
Сегодня я вспоминаю об этом казусе с грустной улыбкой. Не потому, что недооцениваю интеллектуальные возможности манекенщиц (хотя имею полное моральное право не любить их: отцовская жена была манекенщицей). Просто случаются иногда - другой вопрос: по нашей вине или нет? - анти-интервью, это неизбежная издержка репортерской профессии. (Уверен, у каждого журналиста со стажем есть такой же неприятный опыт). Нечто подобное произошло со мной, когда я тоже в Канне пошел в дни кинофестиваля на заранее договоренную встречу с Катрин Денев. В отеле – не помню: «Карлтон» это был или «Мажестик»? – подхожу к номеру актрисы, отличающейся, по отзывам коллег, непростым характером. Стучу и, не чувствуя опасности, спрашиваю: «Вы позволите, мадам Денев?» А мне в ответ громко: «Вон, грубиян! Не желаю с вами разговаривать…» Думаю, произошло досадное недоразумение, наверняка меня с кем-то перепутали. Продолжаю упорствовать: «Мадам Денев, я договаривался об интервью с вашим артистическим агентом…» А мне в ответ – еще жестче: «Не смейте входить, невежда!»
Ничего себе! Естественно, я ретировался. Доехал на лифте до холла отеля, не без труда дозвонился оттуда из кабинки в Париж (мобильных телефонов тогда еще не придумали) до артистического агента звезды. Та ничему не удивилась: «А как вы к ней обратились?» «Мадам Денев», - говорю. А мне в ответ неожиданно: «Вам как иностранцу, наверное, простительно. Но к Катрин нужно обращаться исключительно: «Мадмуазель Денев». Иначе никак! По двум причинам. Во-первых, она никогда не была замужем…» Меня так и подмывало прервать эту тираду: «И при этом Денев имеет двух детей!» Но я предусмотрительно промолчал, а экзекуция продолжалась: «Во-вторых, мой юный друг, во Франции всех актрис называют только «мадмуазель». Даже великая Сара Бернар была «мадмуазель».
«Век живи, век учись тому, как следует жить», - наставлял, как утверждают, Сенека. Жалко только, что беседа с Денев – мадмуазель Денев! – не получилось. Вторично испытывать с ней судьбу в подготовке интервью я сам уже не захотел. Слишком непредсказуемый персонаж, эта мадмуазель! Рассказал о моем фиаско с Денев в Канне французским коллегам, они единодушно подтвердили трудновыполнимость задачи, стоявшей в тот злосчастный день передо мной.
А несколько лет спустя я как-то поздно вечером встречался по одному франко-российскому книжному проекту с парижским издателем, потомком русских белых эмигрантов Алексеем Серебрянниковым. Некогда в издательстве «Опера мунди» он открыл миру Симону Шанже и Всеволода Голубинова, ставших Анн и Серж Голон, авторами неувядаемой Анжелики маркизы Ангелов. Мы сидели за бокалами ледяного «мартини-американо» в полутемном баре палас-отеля «Лютесиа». Со стороны бульвара Распай в тусовое заведение вошла высокая блондинка. При интимном свете бра трудно было рассмотреть издалека лицо и возраст дамы, явно интересной, судя по статной фигуре и гордой посадке головы. Правда, странной деталью в ее внешности выглядели непомерно большие темные очки: на улице уже сгустились сумерки, да и в баре царил мягкий альковный полусвет. Но, когда она приблизилась к нашим креслам, я узнал Катрин Денев. Актриса, жившая неподалеку, на площади Сен-Сюльпис, промчалась фурией сквозь зал с любопытствующими взглядами, - видимо, кого-то тщетно искала – и со злым лицом вышла наружу.
- Бедная женщина, она все еще жаждет славы! – вздохнул Серебрянников. – Вы думаете, для чего она надела ночью темные очки? Чтобы отличаться от других. С годами Катрин еще больше требуется быть замеченной, вызывающей если не восторг, то хотя бы любопытство. Плохая привычка – старение…
Вспоминаю о том летнем вечере в «Лютесиа» под бархатные американские мелодии на черном рояле и ловлю себя на мысли, что все это было не просто в другой стране и в ином мире, а – вообще – до н.э. До нашей эры! Сейчас трудно представить, чтобы люди беспечно – без масок и перчаток – сидели в утробе бара дружными кучками, не разделенные мутными пластиковыми перегородками. Что здоровались они когда-то не символическим прикосновением кулачков в резиновых перчатках, а крепко пожимая друг другу руки, сердечно обнимаясь и целуясь (французы делали это четное число раз, если мужчины целовались троекратно – значит, или русские, или масоны)… Как было все просто в кажущейся сегодня диковинной доковидной жизни! Мы задумывались над ее смыслом, даже не подозревая, что он заключен в самом факте этого существования – без страха перед вирусом, непонятно откуда взявшимся, без переполненных госпиталей, моргов и крематориев, без карантинов, удаленок, зум-конференций…








