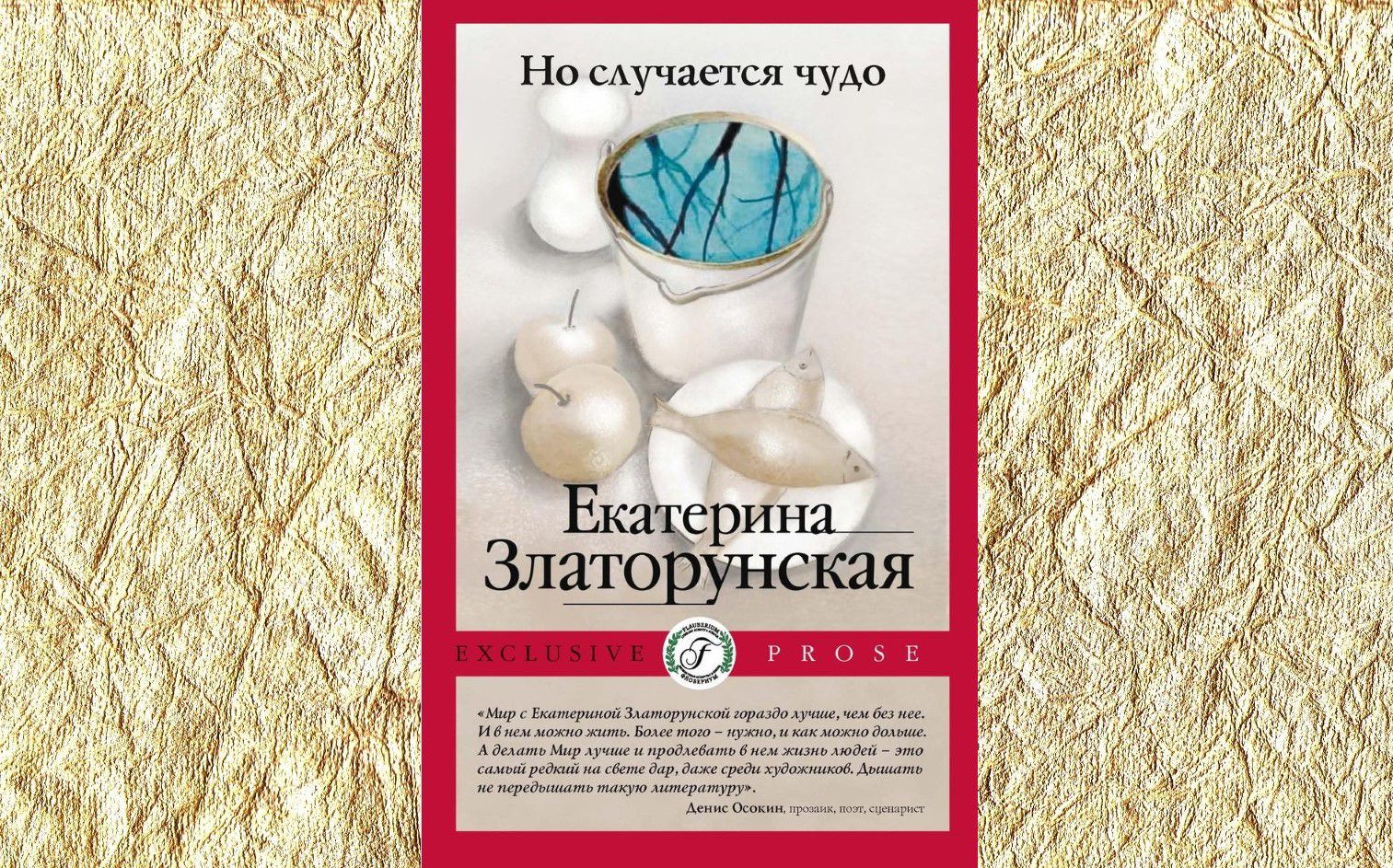Текст: ГодЛитературы.РФ
Несколько лет назад наш портал устраивал конкурс коротких рассказов "Дама с собачкой" - в числе финалистов оказалась тогда и Екатерина Златорунская с рассказом "До свидания, лето". А сегодня мы уже публикуем рассказ из ее сольного сборника "Но случается чудо" - и хотя никакое это не чудо, но загогулина судьбы однозначно приятная.
Самонадеянно верим, что наш конкурс помог Екатерине заложить кирпичик-другой в фундамент ее писательской судьбы - а читателям искренне советуем ознакомиться с глубоко метафизическим рассказом о смерти одного известного писателя. Мы бы даже рассказали по секрету, какого именно - но не хотим портить вам удовольствие от чтения. Ведь рассказы Златорунской, ни капли не ученические и порой напоминающие Евгения Замятина в лучшей его форме, действительно стоят того, чтобы их прочитать. Больше того - есть ощущение, что из них может выйти большая писательница. Если уже не вышла.
Екатерина Златорунская "Но случается чудо"
М.: Флобериум/RUGRAM, 2021
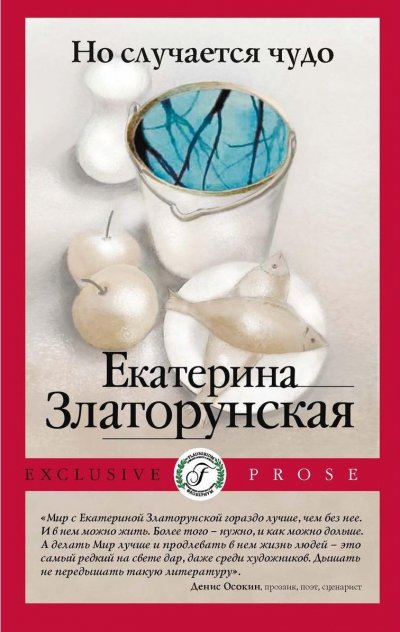
Hortulanus doctus
Решили возвращаться домой морем на пароходе. К писателю посылали предупредить еще в полдень — ночью домой. Домой? Домой. Только ничего не приобретайте заранее. Ни билетов, ни дорожного костюма. Не полагается.
— У меня уже есть новая пара фланелевых костюмов в дорогу, — сквозь сон отвечал он посыльному матросу.
— Оставьте провожающим.
Ближе к вечеру началось. Несколько раз предупредительно стучали в дверь.
— Это опять матрос.
— Какой матрос? — встревоженно спросил женский голос.
Мужской голос печально ответил:
— Ольга Леонардовна, он бредит.
— Матрос стучит в дверь. Не открывайте, — попросил писатель.
Но матрос уже зашел в комнату, неразличимый в начинающейся вечерней тьме. С ним были и другие, подняли его тело с кровати и понесли. Он никого не видел, только чувствовал руки, сдавливающие подмышки. Над его лицом, как будто он уходил под воду, качалось то в одну, то в другую сторону небо, голоса на улицах метались в вечернем чаду, женщины в уродливых шляпках провожали его любопытным взглядом, и какие-то носатые дамы с ужасом повторяли: «Этот господин брызгается кровью».
Он приподнял голову и увидел на груди бабочку с черными бархатными крыльями. С ее крыльев осыпалась густая пахучая черная пудра, и ему казалось, что его тело заносит землей.
Они пошли боком, срезая, огибая, уходя в тугое плотное пространство. Белый однопалубный корабль висел над морем носом в воду. И когда его стали поднимать на корабль ногами вперед, он увидел, что города больше нет, как нет больше ни неба, ни луны.
Его оставили лежать на прогулочной палубе, укутали с головой в черный кокон пальто. Звенел колокольчик. Шел дождь. Влажная шерсть пальто пахла соленым огурцом, и этот запах, еще из жизни, успокаивал его. Кто-то неоднородно, словно у него разные по величине ноги, ходил по палубе, он позвал ходившего: «Уберите пальто, не могу дышать». Но ходивший не откликнулся. Писатель забывался. Ему снилось, как в маленькой комнате плачет знакомая женщина, называемая его женой, какие-то люди ходят вокруг него самого, говорят, мнут сердце, кладут что-то холодное, большое, тяжелое, множатся перед глазами. Входили один за другим какие-то новые — полу-люди, полу-животные. На их лицах, без губ и носов, были только глаза, и казалось, что это не глаза, а какие-то неведомые узкие птицы кружатся над ним. Ему стало страшно — не смотрите на меня. Полулюди отошли, заняли потолок. И оттуда не смотрели на него. Что-то начиналось, он стал проваливаться вниз, куда-то под одежду, уходить из себя. Его крепко обнимали за талию женские цепкие руки. Из легочных ворот по корням бронх выходил воздух, щели и доли рассекали высыхающие легкие сучьями деревьев, закрывались почки альвеол, воздух твердел, чернел и скапливался в верхушке трахеи, перекрывая выход. Тут кто-то осторожно ударил его в спину, и сияющие черные пузырьки воздуха побежали по трубе гортани вверх, вверх, через носовые ходы наружу, и там разлились бело-голубым жидким бисером. Вдалеке заплакали. Ему закрыли глаза: спите, спите, спите. «Так это сон», — подумал он с облегчением, но ему не ответили.
Когда он проснулся, уже наступило утро. Яркий свет, как блеск лимонада в стеклянном графине, застилал сомонно-нежное тихое море и такое же небо без облаков. Он все видел через этот свет, и казалось, что свет разговаривал с ним. А еще другие, невидимо ходившие в этом свете, тоже говорили с ним — гулко, нечленораздельно, голосами животных. Он не боялся их. Они говорили ему: вставай, иди. И он встал, пошел куда-то почти наощупь, спустился в отсек кают, одинаковых, словно сиротские дети, все они были пусты. В каждой — кровать, умывальник, белые стены, окна-витрины, одно из них заполнил черный бок непознаваемой рыбы с золотым следом от цветного стекла. Он вернулся. На палубе лежали сваленные кучей черное пальто. Он узнал свое, уже чужое и нестрашное.
Две женщины, облокотившись на леера, смотрели на море, на одной была широкая шляпа с черной шелковой лентой, они не удивились ему. Одна из дам помахала ему рукой. Он смотрел на ее руку в кольцах, камни в золотых оправах сияли ласковой бирюзой в просветах света, словно влюбленные глаза, потом на море, чистое, как глазные капли. Ему захотелось плакать.
Он хотел спросить: «Почему так тихо?» Но не понимал как. Он больше не мог говорить. Он еще был телом и даже управлял собой, но мешало ощущение раздвоенности — одновременной недвижимости центра и суеты конечностей, где-то там жил еще кто-то другой, кому он повиновался, с кем был связан, кто звал его, говорил с ним, спрашивал, и какие-то длинные сомкнувшиеся слова шли через него и он не понимал их смысла. Иногда он видел лицо того человека, то старое, то молодое, то совсем ребенка. Этот человек метался и все куда-то хотел, и через то лицо заглядывали другие. И тогда он смотрел на свет, куда-то наружу, и свет успокаивал его и того человека внутри, избавлял их друг от друга.
Ничего не встречалось по курсу: ни материки, ни их очертания, ни скалы, ни острова, и само море было ровным, спокойным, соединенным с небом, и казалось, что корабль не плывет по воде, а идет сквозь свет.
Лязгнули несколько раз колокольчиком. Он понял, что куда-то нужно идти. Дамы радостно заволновались, затрепетали кружевами рукавов платья. Он вошел за ними в салон-гостиную, напоминавшую чистую мертвую операционную: стеклянные двери, лампочки в голых светильниках, стол и лавки, накрытые белыми простынями. Сквозь стекло вазы просвечивали кузнечиковые тонкие стебли цветов, с бледными не родившими бутонами. Дамы сели рядом, старая и молодая, видимо мать и дочь. Шляпы, словно черные медузы, дрожали на их головах от каждого движения.
Белые тарелки были покрыты салфетками. Еды на них не было. Но дамы, словно на званном обеде, следовали за переменами блюд, подносили ко рту блестящие ложки, медленно, с особенным наслаждением втягивали ртами пустоту и что-то отпивали из пустых бокалов. Он почувствовал утомление. Мать и дочь, а может быть, две сестры разговаривали, взмахивали руками, и браслеты на их запястьях перестукивались заливисто и гулко.
Дамы шептались: «И жена была у него актриса, а он писатель, а может, он был доктором. Да, доктором».
Их голоса перекрывали странные видения. Он видел совсем близко усталое лицо мертвого человека с вспотевшими от мук волосами, глаза его были закрыты, и от нижних век растекались, как слезы, легкие морщины. Дамы в шляпах стояли среди прочих. Их спрашивали: кто? кто умер? Чехов. Тот Чехов? У гроба танцевал журавль. Бледный, на длинных тонких ногах. Иногда журавль останавливался и кричал.
А еще он видел, как заюлила сильная метель, и того, с закрытыми глазами, поместили в катафалк и повезли. Снег падал прерывистыми стеклярусными нитями. Женщины шли впереди, указывая дорогу, и мелькали в снежном тумане ленты на их черных шляпках, словно уцелевшие зачем-то металлически-блестящие осколки крылышек давно умершей бабочки.
На козлах сидел кучер в черной фуражке вместо цилиндра.
И сквозь мелкий мышиный шум сыплющегося снега доносилось, как звали кого-то домой, домой, и еще какие-то слова, распадающиеся на слоги.
— Это вас зовут, — старшая попутчица смотрела на него торжественно-строго. Ее компаньонка куда-то исчезла. Она осталась одна. А может быть, так было всегда. Черты ее лица расползались, словно гусеницы. Казалось, вот-вот, и она исчезнет сама.
Он увидел, что над ней нависают еще какие-то другие, укрывшиеся в воздухе. Наверное, это были те самые, невидимо ободрявшие его еще утром на палубе. Они почувствовали, что он боится, и отступили, но он знал, что они никуда не ушли, что они ждут. И что надо, надо…
То, что ему представлялось морем, было сомкнувшимся в единое тело светом, и посреди, увязая в его недрах, стояло огромное живое существо с рыбьим узким телом, — оно и было кораблем. Он не видел ни начала его, ни конца, только чувствовал идущий откуда-то снизу гул. Повсюду стояли существа на многих лапах и выли на разный лад. Холодные вихри света вертелись вокруг них, как пряжа вокруг веретена. Он понимал, что они так говорят с ним.
Кто-то на плечах человека с массивными челюстями пролаял: Hortulanus doctus.
Он не мог сдвинуться с места. Его подтолкнули, он почувствовал, что в нем остался светящийся слепок толкнувшей его ладони, и поднялся туда, за ними.
Все виденное им раньше стало другим.
Ему вложили в руки двенадцать пар глазных семян, внутри каждого под влажной оболочкой мерцала то золотая, то алая, то сапфировая косточка зрачка. Они были тяжелы, он не мог их нести. Одно глазное семя выскользнуло из руки. Нужно было сделать что-то простое, что он делал раньше и забыл. Сделать небольшое углубление в земле, налить воды, положить семя, закрыть его землей. Та земля была черная, а эта мягкая, бесцветная, пульсирующая, живая. Он вложил глазное семя в ладонь могилы, оно проскользнуло вглубь и просияло сквозь свое укрытие. Он закладывал так семя за семенем, но семена не убывали в его ладонях, становясь лишь невесомее и невесомее.
За его спиной восходили пуповины новых растений, прозрачные, словно состоящие из мелких капель воды, капли соединялись в ствол, из ствола вытягивались длинные ветви, и от тех ветвей отходили все новые и новые, в мгновенно зарождавшихся завязях цветов, ветви возносились куда-то ввысь, и где-то там, в недоступной ему вышине, сквозили над его головой. Он закидывал голову вверх, и ему даже виделось, как цветы превращаются во что-то волшебное и страшное — то ли птиц, то ли огромных людей. А иногда оборачивались бело-сиреневой пылью, и на его волосах, бровях лежала та же пыль.
Он все шел и шел, не оглядываясь назад, а за ним благоухал, гудел, скрипел, рос и цвел огромный сад. Он вспомнил странные слова: Стиракс обассия, Кипарис аризонский, Лириодендрон китайский, Яблони холла, Магнолия лилиецветная, Тайвания криптомириевидная, Фирмиама платанолистная, Барбарис Тунберга, Клен дланевидный, Абрикос японский, Рододендрон индийский, Нандина домашняя, Тернстремия голоцветковая, Михелия фиго, Магнолия кобус, Индийская сирень, Дейция шероховатая, Дзельква пильчатая, Сосна приморская, Вишня пильчатая, Кизильник холодный, Эвкалипт красноватый, Эвкалипт блестящий, Эвкалипт шаровидный, Гева андерсона, Серисса дурнопахнущая, Хурма восточная, Кипарис вечнозеленый, Камелия японская, Кедр гималайский, Магнолия крупноцветковая, Сосна ладанная, Дуб морзинолистный, Куннингамия ланцетовидная, Мандарин уншиу, Синюха лазурная, Ландыш майский, Гельга лекарственная, Чистотел большой, Мелисса перечная, Полынь горькая, Тысячелистник обыкновенный, Девясил высокий.
Он давал имя новым растениям, и те откликались на эти названия, бегло гладили его уносящимися ветвями: «Хорошо, зови нас так. Мы — твой сад, твоя земля. Ты — наш садовник».
Он шел, то как будто маленький, то большой, то медленно, то быстро, один, совсем один, и в его руках не убывали семена. Сначала ему подавали только глаза, но вскоре в его ладонях появлялись то теплые слезы, то белые ангельские зубы, то что-то еще, и он всегда знал, что делать. Разминал руками то, что он по-прежнему называл землей, осторожно клал светящееся семя в скрадок и чувствовал снова и снова, как в мягкой розовой утробе начинается тихое брожение новой жизни.
Позже он начал видеть тех других. Их было бесконечно много, они застилали друг друга, наслаивались, они были легки, они были бескрылы, они были прозрачны и они любили его.