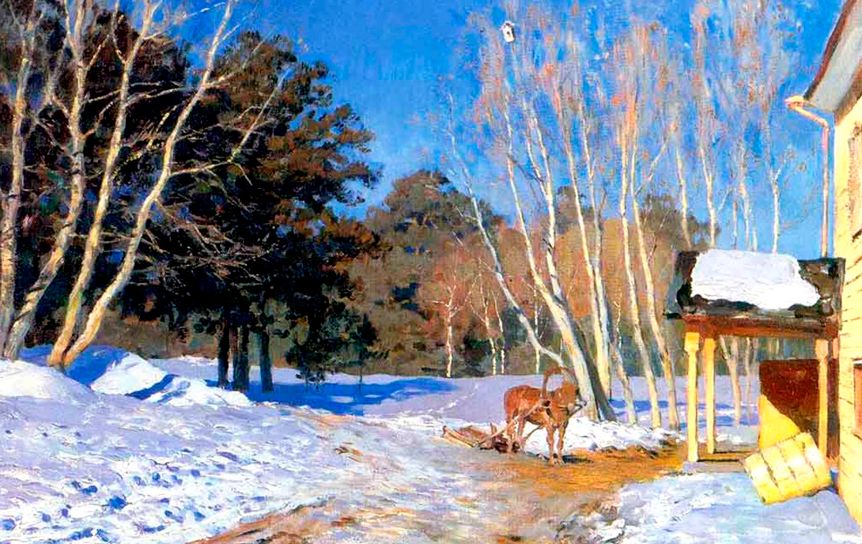Текст: Максим Васюнов / РГ
Предисловие написал Владимир Солоухин, который, в отличие от многих публицистов и критиков тех лет, ни в чем Набокова не обвиняет и даже о Набокове-поэте отзывается без снобизма и ревности (Бродский, например, его вообще за поэта не считал). Для Солоухина важно, что Набоков-эмигрант писал стихи "преимущественно на русском языке" и что в них "каждая почти строка кричит о родине, о тоске по ней, о страдании без нее, опровергая расхожее мнение о космополитизме Набокова, о его бескорневом существовании в литературе".

Подборка вышла очень вовремя и вызвала у многих если не шок, то удивление. Нет, книги Набокова тогда уже печатались, но то были не стихи, в которых через строчку тоска по России, к тому же предисловия к этим книгам писались до странности однобоко - критики и литературоведы отказывались признавать писателя русским, рядили его, эстета и модника, в безвкусные рубашки космополита. Набокова настырно представляли "человеком мира" - без языка, без родины, без духовного фундамента. Эта странная мода продолжается до сих пор, даже спустя 45 лет после смерти писателя. Возможно, так легче объяснить, почему Набоков поклонялся языку, время для него было второстепенно, он отдавал предпочтение стилю, а не тому, что происходило в мире, где-то за "языковым забором". "Он будет - все же, вероятнее всего - как Пруст, писателем для писателей, а не как Пушкин - символом и дыханьем целого народа", - скажет в своей книге о Набокове Зинаида Шаховская.
Мемуаристка-эмигрантка, хорошо знавшая Набокова лично, конечно, читала и его стихи, где есть "дыханье" народа, оставшегося без родных берегов, но Шаховская предпочла повторить мнение соотечественников, а они Владимира Владимировича за своего не признавали. Многообещающие слова Бунина, "этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня…", сменились приговором: "блеск, сверкание и отсутствие полное души".
Другой писатель-эмигрант Борис Зайцев, который собирал для Набокова деньги на отъезд из Парижа в Америку, вспоминал, что сразу после эмиграции из России автор "Машеньки" действительно "имел успех, даже немалый", но потом превратился в "буржуе" и "говорил чушь потрясающую".
Что не могли простить писателю "патриархи русской прозы"? С одной стороны, предательство дара, они считали, что он должен был миссию русского писателя поставить выше заигрываний с языком, а он не только в своей прозе сошел на english, но и стал блестящим американским стилистом.
С другой стороны Набокову не простили тот образ космополита, который из него лепили критики и журналисты, не понимающие, куда же причислить этого американца, родившегося в России, но успевшего пожить и в Германии и во Франции. Ставшего писателем на русском языке, но признавшегося в своем автобиографическом романе, что в детстве он говорил только на английском, а на родном знал лишь несколько слов.
При всем при этом Набоков был беспощаден к советской власти и не верил, в отличие от того же Зайцева, что Россия когда-нибудь возродится. Он верил лишь в силу родной речи. ("А я молюсь о нашем дивьем диве,/ о русской речи, плавной, /как по ниве /движенье ветра…Воскреси!")
Но все обвинения против Набокова, и как литератора и как гражданина, обнуляются, когда читаешь его стихи. Они действительно почти все написаны на русском языке. И если помнить, что стихи для любого пишущего, это и есть его молитвы - способ общаться со Вселенной, с историей, с другим миром, являющимся часто тому же Набокову во снах, как и Родина, - то ни о каком сознании космополита речи иди не может. Человек, который осмысляет свою жизнь и жизнь своей страны языком Пушкина, не может быть американским писателем.
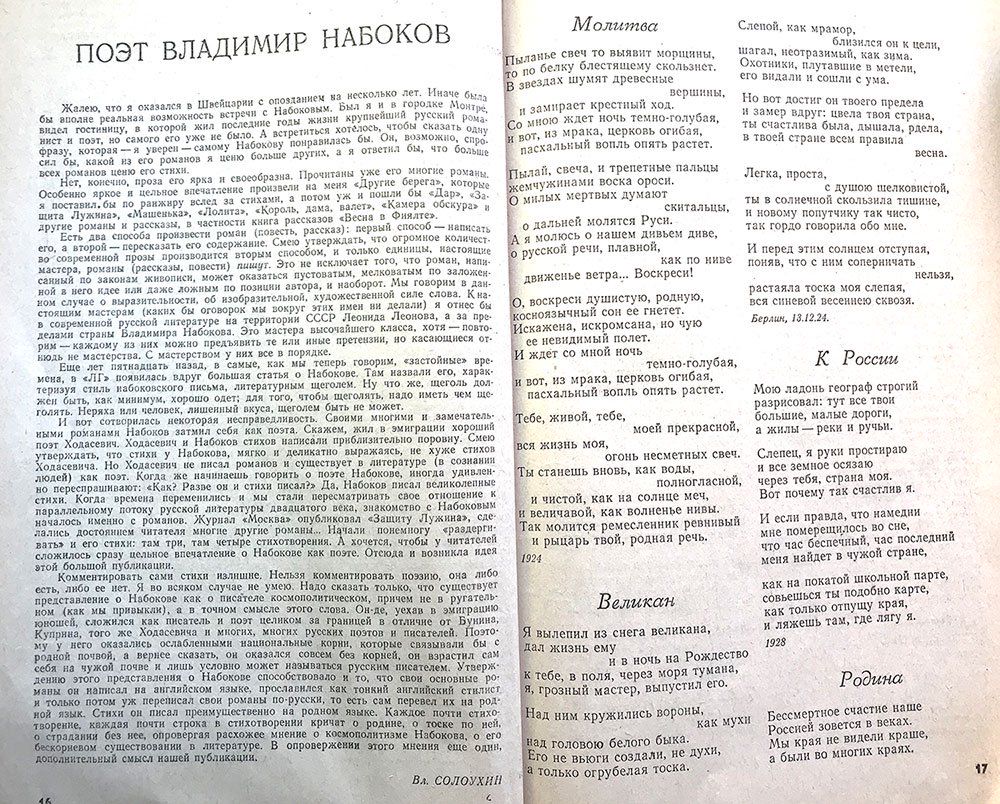
Читая русские и американские рассказы Набокова, его письма и интервью, ловишь себя на мысли, что он потому и писал стихи, чтобы остаться русским, и чтобы громче был слышен его "вой об Отчизне".
Без России он чувствовал себя зависшим над бездной (частый образ в его произведениях), а стихи давали ему крылья.
- Не моря шум - в тиши ночей
- иное слышно мне гуденье:
- шум тихий родины моей,
- ее дыханье и биенье.
Кто еще может так тосковать по России? Только русский писатель. И нет его греха в том, что "приказчик" не выдал "на родину билет". Просто уже не было той страны, над которой качалась его колыбель, страны, которую он, скиталец, называл "бессмертным счастьем нашим",
Впрочем, он и в Америке не умер. Набоков ушел на тот свет там, где ему гарантировали крепкий сон, так необходимый для частых встреч с Родиной. В тихой Швейцарии.
- И если правда, что намедни
- мне померещилось во сне,
- что час беспечный, час последний
- меня найдет в чужой стране,
- как на покатой школьной парте,
- совьешься ты подобно карте,
- как только отпущу края,
- и ляжешь там, где лягу я.
Расстрел
- Бывают ночи: только лягу,
- в Россию поплывет кровать,
- и вот ведут меня к оврагу,
- ведут к оврагу убивать.
- Проснусь, и в темноте, со стула,
- где спички и часы лежат,
- в глаза, как пристальное дуло,
- глядит горящий циферблат.
- Закрыв руками грудь и шею, -
- вот-вот сейчас пальнет в меня -
- я взгляда отвести не смею
- от круга тусклого огня.
- Оцепенелого сознанья
- коснется тиканье часов,
- благополучного изгнанья
- я снова чувствую покров.
- Но сердце, как бы ты хотело,
- чтоб это вправду было так:
- Россия, звезды, ночь расстрела
- и весь в черемухе овраг.
- 1927 г.
***
- Для странствия ночного мне не надо
- ни кораблей, ни поездов.
- Стоит луна над шашечницей сада.
- Окно открыто. Я готов.
- И прыгает с беззвучностью привычной,
- как ночью кот через плетень,
- на русский берег речки пограничной
- моя беспаспортная тень.
- Таинственно, легко, неуязвимо
- ложусь на стены чередой,
- и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,
- напрасно метит часовой.
- Лечу лугами, по лесу танцую -
- и кто поймет, что есть один,
- один живой на всю страну большую,
- один счастливый гражданин.
- Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.
- Все тихо. Поздний пешеход,
- встречая тень средь площади пустынной,
- воображение клянет.
- Я подхожу к неведомому дому,
- я только место узнаю...
- Там, в темных комнатах, все по-другому
- и все волнует тень мою.
- Там дети спят. Над уголком подушки
- я наклоняюсь, и тогда
- им снятся прежние мои игрушки,
- и корабли, и поезда.
- 1929
К России
- Отвяжись, я тебя умоляю!
- Вечер страшен, гул жизни затих.
- Я беспомощен. Я умираю
- от слепых наплываний твоих.
- Тот, кто вольно отчизну покинул,
- волен выть на вершинах о ней,
- но теперь я спустился в долину,
- и теперь приближаться не смей.
- Навсегда я готов затаиться
- и без имени жить. Я готов,
- чтоб с тобой и во снах не сходиться,
- отказаться от всяческих снов;
- обескровить себя, искалечить,
- не касаться любимейших книг,
- променять на любое наречье
- все, что есть у меня, - мой язык.
- Но зато, о Россия, сквозь слезы,
- сквозь траву двух несмежных могил,
- сквозь дрожащие пятна березы,
- сквозь все то, чем я смолоду жил,
- дорогими слепыми глазами
- не смотри на меня, пожалей,
- не ищи в этой угольной яме,
- не нащупывай жизни моей!
- Ибо годы прошли и столетья,
- и за горе, за муку, за стыд, -
- поздно, поздно! - никто не ответит,
- и душа никому не простит.
- 1939 г.
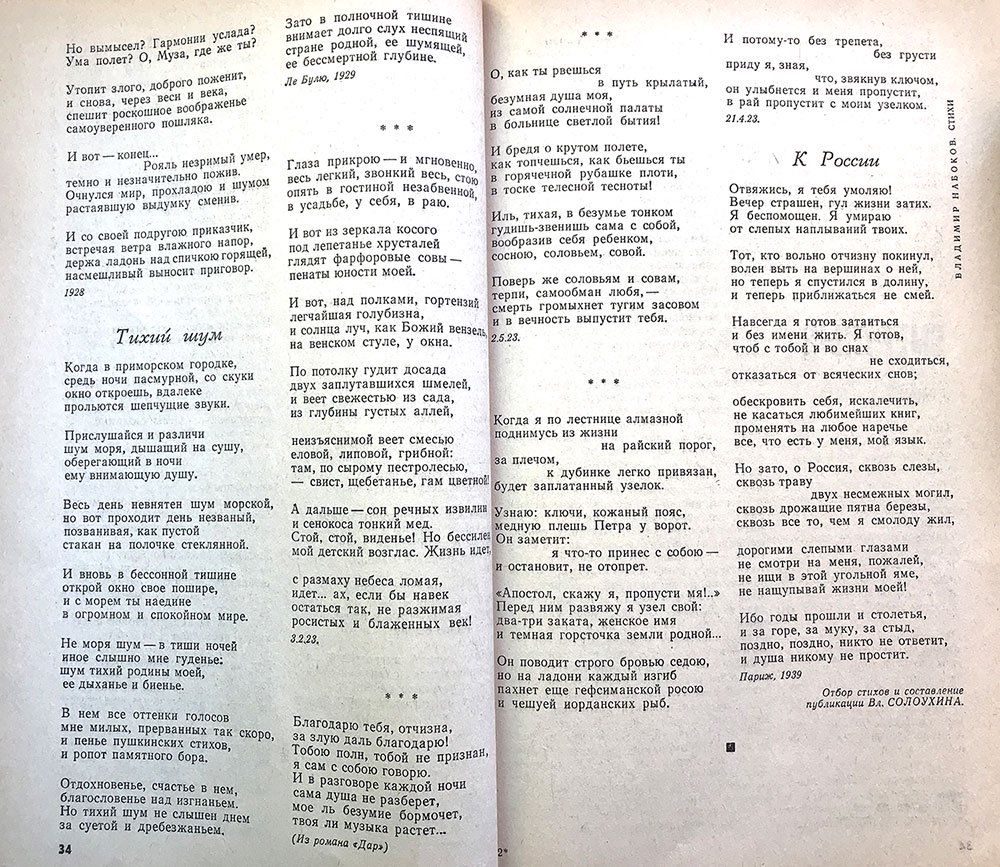
-