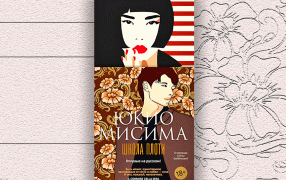Текст: Елена Бондаренко
Рассыпался горох по сто дорог
**
Рука дрогнула, и чашка с молоком полетела на пол. Ох, эти старые, старые, старые руки! Осколки, ледяная острая крошка – да по всей кухне, как их соберешь. А Мырсуха пойдет, поранится. Лужица молока расплылась толстой лошадью. На полдня теперь дел.
**
Однажды приехали Мария с Ашотиком, а он отвел меня в сторонку и шепчет: «Бусинка, я хочу связать маме шарф, научи меня?» Она обрадовалась так: вот это да, внук – и вязать! Так хорошо было сидеть с ним рядом, тепло это детское, которое разливается по всему телу до самого сердца. Выволокла сундук, мамин еще, кованый, настоящий, нитки размотала: «Вот, гляди-ка. Вот сюда зацепляешь, в петельку протягиваешь, потом закрепляешь… И снова сюда…», – Нуне держала Ашоткины ручки в своих, сплошь покрытых узлами вен, будто время хочет уловить в эти синие сети очень редкую рыбу. «Ряд лицевой, ряд изнаночный… Не спеши, не спеши, вяжи, чтобы душа вплеталась в узор… Вязать – это же как шаракан петь». «Бусинка, милая, почему у тебя руки дрожат?» – Ашотик сжал ее ладони своими крошечными пальчиками.
Пахло осенней паутиной, мандаринами и морем, это было так странно в поседевшей ее, сморщенной квартире, будто вместе с Ашотиком в заброшенный пыльный дом пришли запахи ее детства, маминого сада, черных от земли и дорожной пыли пяток и друзей, которые живы.
**
Один только угол в квартире всегда сиял, как сияет в храме любимая икона, такая, к которой приходят побыть со своей главной бедой и со своей главной радостью. Там, у этой иконы, всегда еще висят крестики, украшения разные, иногда даже игрушки. Нуне помнит, что ее это удивляло раньше, когда она приезжала в храм: зачем Богу украшения? А потом однажды Ашотик пришел к ней в гости и протянул ей фигурку какого-то супергероя или супершпиона.
– Это тебе, Бусинка, – говорит, – в подарок. Это самый суперсильный супергерой! Он и Человека-Паука победит, и Черную Пантеру, и…
– Буду теперь сильнее Человека-Паука? – улыбнулась Нуне.
– Нет, конечно! Ты и так круче их всех!
Вот тогда она и поняла, что к иконе люди несут подарки от любви. А супергерой, вон он, стоит. На крышке пианино. Охраняет самое дорогое. Музыку.
**
Отчего же холодно так? Перебирала пакеты в шкафу, искала муки и соли на лепешки. Пальцы скрючились как застывшие на морозе ветки яблони в дедушкином саду.
«Мать муку молола – весь свет в белое одела. Знаешь, что это?», – хитро поглядывая, приговаривал дед, когда Нуночка прибегала к нему утром, забиралась на коленки и утыкалась носом в черную бороду.
Шел снег. Невиданный в этих краях белый порох засыпал туи и абрикосы, мандарины и гибискусы, беспорядочно толкавшиеся на той стороне двора.
И дорогу.
Так редко в последнее время здесь проезжали машины. Просто удивительно, почему бы это? Другую дорогу, верно, проложили, через поселок, через сады, напрямую к морю. Там нужнее. Ах, какие там сады! Мандарины, хурма, инжир, персики… «Во дворе рогатая корова один раз в год молоко дает, а домой не идет…», – нашептывает дедушкин голос. Как давно она не бывала в их саду! С самой…
**
Крышка была цвета крепкого чая, какой заваривал по утрам дед, собираясь в горы проверять коров. И даже будто пахла терпкой травой.
Она любила к ней прикоснуться почти случайно, просто задеть краем старой Гаспаровой рубашки, в которой ходила дома. Эти мимолетные прикосновения – как едва заметные пожатия любимых пальцев на монастырской службе, как одними губами «люблю тебя» во время пространной речи гостя, который хватил лишнего на свадьбе.
Порой, в тихие дни, удавалось даже присесть на три минуты и пробежаться по клавишам – словно июльскими каблучками, сентябрьскими резиновыми сапогами, военными ботами или райскими крыльями – как повезет. Воздух в такие дни долго оставался светлым, а Гаспар подолгу спокойно спал, не стонал и не злился на нее.
**
Когда забрали отца и Гаспара, тогда, ночью, она сначала хотела бежать куда-то, спасать их, металась, кидала в сумку для нот какие-то документы, тряпки, зубную щетку зачем-то. Разворотила шкаф. Потом села посреди этих тряпок и бумажек и застыла. Щека намокла. Несколько капель упали на пол, удивительно ритмично, как «Похороны куклы». Нуне потом до света бесцельно ходила по дому, а наутро накинула какие-то простыни и тряпки на пианино, которое улыбалось ей из угла. И десять лет не прикасалась к нему.
Отец не вернулся больше.
Гаспар пришел через месяц. Без ноги. С девятью шрамами. И с рваной душой.
Рассыпался горох по сто дорог, никто его не соберет: ни царь, ни царица, ни красна девица, не бела рыбица. А это что такое, Нуне-джан?
**
– Мырсуха, иди, я тебе молока налила!
По полу кухни неторопливо шествовал огромный рыжий таракан.
Нуна замахнулась было полотенцем – да на полпути бросила. Жалко парня. Животина все-таки, божья тварь.
Следом прошмыгнула худющая трехцветная кошка. Кажется, во сне ей снилось, что она нашла свои корни среди сфинксов, но на деле уши были слишком велики, а характер больно уж прост.
Кошка вяло лизнула молоко, скользнула взглядом по стене, окну – и застыла.
Снег уже не сыпал, он окутывал собой все. С неба летели обрывки неудачной симфонии о долгой прекрасной жизни, Господь разорвал ноты на миллионы кусочков и печально бросил на землю. Людям теперь сотни лет собирать обрывок к обрывку.
– Соберут ли, а, Мырсуха?
Снежинки кружились. Кошка покачивалась. Интересно, у нее тоже сейчас в голове Шопен?
**
Два брата друг за другом бегут, но никак один другого не догонит, слыхала ли? – и улыбается. Никто никогда так не любил Нуне, как дед.
Ну, так кто же это, кату?
Знаю, дед, знаю. Один бежит, второй за ним спешит, споткнется, обернется, один на земле останется. Бегут да бегут, не остановятся, стряхнут с себя крупинки человеческих жизней, облетят те, упадут наземь, да и уйдут водой. А потом прорастут травинками историй, одуванчиками шуток, свежими побегами встреч свяжут прежде случайных прохожих.
Вот она сама в платье, перешитом из дедовых белоснежных сорочек: тоненькая, словно веточка заснеженного свадебного дерева. Надо же, чтоб именно в этот день тогда выпал снег. А столы-то в мамином саду накрыли, в какой дом поместится двести гостей! Весь поселок созвали, напекли всего, наварили, наготовили… Анаит принесла бастурму и суджук, Нина – хашламу, Мариам пахлавы и гаты напекла, Наташа целый таз пельменей притащила, всей семьей, говорит, лепили… да чего там, вместе жить – вместе и праздновать. Ели, пили, плясали, плакали, ждали огромного счастья, больше горы и больше неба.
**
Пианино из маминого дома в новую квартиру перевозили всем миром. Подружкины мужья вчетвером катили, поднимали, опускали, снова катили, перекуривали, чертыхались, катили, хохотали, катили, спотыкались, катили… Хорошо, квартира на первом этаже оказалась, а не на восьмом, например.
Женщины тем временем накрыли новые столы, посыпали гранатовыми зернами мясо и овощи, перемыли косточки почти всем своим соседям и уселись вздохнуть. Наташа пожаловалась на нерадивых водителей автобусов, которые еще не привыкли к новой остановке, летят на всем ходу мимо, а школьники потом опаздывают. Нина сетовала на жуков и мелкие мандарины, Анаит – на сухое лето и вялую траву… В общем, не теряли времени даром. Мариам спросила, можно ли Нуне поучить музыке ее дочку. «Она старательная девка, хоть и бестолковая. В школе одни двойки. Может, ты ее своими вальсами увлечешь?»
Соня, дочка Мариам, недавно прислала через Ашотика из Израиля свой диск с концертом Рахманинова. Нуне слушала весь вечер. Думала, сядет поуютнее, будет наслаждаться… Не тут-то было: вскакивала, размахивала руками, вскрикивала: «Ну куда же ты тут стаккато! Глаза б мои не смотрели, уши бы мои не слышали этого модерато!» И все-таки весь следующий день она нет-нет, да и взглянет на диск, нет-нет, да и погладит клавиши – и улыбается.
**
Дед был из стамбульских армян, как и почему его семья оказалась в Абхазии, он никогда не рассказывал. Вообще, он про себя не говорил. На Нунины расспросы отвечал шуточками да загадками, целовал ее в горбинку переносицы и вел гулять в мамин сад.
Но что бы там ни было, всякому было видно, что дед Вардан у Нунки особенный и ей жутко повезло. Нуне носила белейшие, идеально скроенные блузы и сарафаны. У нее одной были настоящие кожаные ботинки. Она одна умела читать по-французски и по-английски в школе. И только у нее на всем, казалось, белом свете было настоящее пианино.
Нуне была уже школьница, лет пятнадцать ей было. Майская ночь накануне какого-то школьного экзамена случилась жаркой и душной, все долго ворочались, бродили, мать заглядывала, приносила попить. Нуне благодарно пила, но легче не становилось. Через час метаний по постели она выбралась в сад. Под их деревом сидел и курил дед. Он глядел в сторону нового поселка, там сияли огнями свеженькие многоэтажки.
– Гляди, Нуне-джан, как светлячки в траве, правда?
– Дед, почему ты не спишь по ночам? Тебе снятся страшные сны?
– Да. Снятся. А я боюсь, что не смогу от них проснуться.
– Почему?
– Когда мне было 15, мы с мамой как-то гостили у родственников. А когда вернулись вечером, вместо нашей улицы увидели обгорелые деревяшки. Только в одном окне был свет, у старой Аревик. Я боюсь, что снова там окажусь и не смогу проснуться.
Дед так и умер однажды на этой их любимой скамейке в саду. Но лицо его было светлым. Как будто он слушал музыку. Удивительную музыку.
**
Она увидела его вчера совсем случайно на телефоне у Ашотика.
День был грустный, дочка опять приставала с разговорами о переезде, нельзя, мол, жить одной в пустом доме, мол, это опасно. Смеется что ли? Она уж три года как одна живет, с тех пор как Гаспар умер, ей даже и полегче стало. На улицу, правда, давно не выходила, незачем было. Еду да всякие вещи дочка привозила, а больше-то чего. Не хотелось на улицу. Вот бы только как-нибудь в сад мамин сходить, да к Наташке в гости. Надо бы попросить Ашотика когда-нибудь прогуляться с ней.
Да руки еще вот трясутся.
Нуне подошла к внуку. Он с каким-то странным лицом смотрел на экран телефона. На экране было пианино. Почти как у нее, только черное. И разломанное на куски. И все в снегу вокруг. Черное и белое, как в старом фильме.
– Что это, Ашотик?
– В него попал снаряд, бусинка. Вчера. Теперь вот, обломки остались.
Разве что ветер на них теперь сыграет.
**
Снег шел весь вечер и всю ночь. Дороги совсем не стало, одни сугробы, как же Мария с Ашотиком домой поедут?
Нуне сначала все смотрела в окно и слушала, как тихо дышит во сне внук.
А потом она решилась.
Первым аккордом ожгло пальцы как огнем.
Чулки.
Левая рука вела дрожащую мелодию, правая задумчиво касалась отдельных клавиш.
Рубаха.
Крещендо. Меццо-форте. Руки становились крепче с каждой нотой, будто наливались музыкой, как растение водой.
Красное шерстяное платье, еще от бабушки.
Теперь реприза. Спокойнее, умереннее, шаг за шагом. Правая перехватывает мелодию. Теперь снова левая. Линии сплетаются и разбегаются снова…
Кожаные ботинки, дедушкин подарок на свадьбу.
Пальцы все помнят. Каждую щербинку, каждую ямку, каждый удар. Теперь легато.
Пальто.
Не спеша, шагом. Andante non troppo.
Платок.
Ritenuto. Piano. Pianissimo.
– Брысь, Мырсуха, и без тебя страшно, коленки дрожат!
Перчатки.
Вздох.
Дверь открылась бесшумно.
Лицо сразу окатило ледяным холодом и пустотой.
Она, не оглядываясь, выходит из подъезда на улицу.
Небо дышит звездами.
Рассыпался горох по сто дорог...
Во всем доме горит только одно окно.
Остальные выбиты.
**
– Сколько загадок ты знаешь, дед?
– А сколько звезд на небе, Нуне-джан?
– Сколько сказок ты знаешь, дед?
– А сколько цветов на мандаринах в нашем саду, Нуне-джан?
– Сколько историй ты знаешь, дед?
– А сколько слез на войне, Нуне-джан?
**
Вот и сказка вся, Нуне-джан.