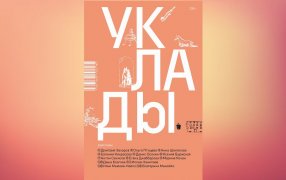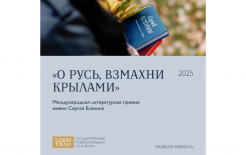Текст: Ольга Лапенкова
Потрудившись над наброском, авторы бесконечных романов о бесстрашных попаданцах и коварных соблазнительницах, даже если совсем не заботятся о стиле и грамотности, всё равно просиживают пару месяцев за письменным столом. Довести результат до блеска им помогают корректоры, редакторы, верстальщики и другие специально обученные люди, которые тратят на это драгоценные человеко-часы.
Если в нашем жестоком мире вынуждены трудиться даже графоманы, то что говорить о классиках? Прежде чем поставить заветное слово «Конец» (или, если это пьеса, — «Занавес»), авторы XIX–ХХ вв. составляли черновиков и набросков чуть ли не вдвое больше, чем материала, вошедшего в итоговую версию шедевра. А если вспомнить, что в те далёкие времена не было даже шариковых ручек (их начали массово производить только в 1960-х гг.) — не то что компьютеров с удобными программами типа Word’а, — масштабы писательского труда окажутся такими, что впору будет ужаснуться.
И всё же — даже на фоне повестей и романов современников — роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» можно назвать рекордсменом по числу правок. Первоначальный замысел произведения кардинально отличался от того, что получилось в итоге. Судя по черновикам Михаила Афанасьевича, существовало порядка шести версий романа о похождениях дьявольской свиты. А ещё, что самое забавное, в «стартовой» тетрадке Булгакова — которую автор, кстати, сжёг в камине, но содержание которой удалось восстановить — не было ни Мастера, ни Маргариты.
Возвращение к прозе
В начале литературной деятельности Михаил Афанасьевич Булгаков заявлял о себе в первую очередь как прозаик. К 1925 году он уже написал произведения, которые читают и перечитывают до сих пор, — «Белую гвардию», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Однако затем решил на какое-то время оставить прозу — и посвятить себя драматургии. Булгаков писал одну пьесу за другой, и оказалось, что талантливый человек и впрямь талантлив во всём.
И всё бы хорошо, но возникла серьёзная проблема. Поскольку Булгаков был настроен критически по отношению к советской власти, многие его пьесы либо вовсе запрещались к постановке, либо, будучи поставленными, почти сразу «снимались», то есть исключались из репертуара. Поэтому неудивительно, во-первых, что в тяжелейший период жизни Михаил Афанасьевич снова обратился к прозе, а во-вторых — что проза эта получалась на удивление кровожадной.
Исследуя перипетии творческого пути Булгакова, Мария Котова в статье «Черновики Михаила Булгакова. О чём говорят сожжённые страницы, вычеркнутые слова, стёртые имена и пометки карандашом» выделила следующие события, едва не сломившие автора:
«В 1928 году Булгаков неожиданно возвращается к прозе, оставленной несколько лет назад ради театра. Когда это произошло и в каком месяце — неизвестно, но именно этим годом в более поздних редакциях Михаил Булгаков датировал начало работы над „Мастером и Маргаритой“. В первой редакции романа ещё нет ни мастера, ни Маргариты, но уже есть главная тема: в разделе „Материалы“ два листа озаглавлены „О Боге“ и „О Дьяволе“. Работая над романом, Булгаков бессильно наблюдает за гибелью своих пьес: в 1929–1930 годах запрещены „Бег“ и „Кабала святош“ („Мольер“); сняты с репертуара „Дни Турбиных“, „Зойкина квартира“ и „Багровый остров“. В марте 1930 года, осознавая гибельность своего положения, Булгаков пишет письмо правительству СССР c признанием, что он „своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа ‘Театр’ “».
Выдержать все эти испытания Булгакову помогла супруга — Елена Сергеевна, которая все семь лет, что они были вместе, посвятила исключительно творчеству любимого человека. Таким образом она пополнила ряды других поистине героических женщин — «боевых подруг» тех авторов, которым был просто необходим надёжный тыл, а также, конечно, помощь с переписыванием, редактурой, подготовкой произведений к печати. Среди них можно назвать жён Достоевского, Толстого, Шолохова…
Именно Елена Сергеевна и стала прототипом Маргариты, которую Булгаков «добавил» в финальную версию романа (а в роли Мастера, по всей видимости, изобразил самого себя). Но в сожжённом экземпляре до этого было далеко. Зато имелось несколько вариантов названий, а также имён самых сомнительных персонажей — гостей из потустороннего мира. М. Котова продолжает:
«В первой тетради, той самой, которую Булгаков бросил в печку, страницы сохранились только частично. <…> В самом верху первого листа он записал варианты названий („Сын“, зачёркнутое „Гастроль“) и жанр будущего текста („ром[ан] “). Ниже зачеркнуты два варианта названия первой главы — „Чёрный маг“ и „Божеств[енная комедия“?]).
Роман начинается с таинственных событий, которые наблюдает главный герой. Он берётся за перо, чтобы рассказать о них Кондрату Васильевичу, расследующему необычное дело.
В левом нижнем углу страницы Булгаков записывает имена демонов — Антессер, Азазелло, Велиар. В итоге писатель выберет имя Воланд.
Первая страница перечёркнута красным карандашом — от этого варианта начала романа, как и от двух других, Булгаков отказался. Только четвёртая версия первой главы удовлетворит его и станет классическим началом „Мастера и Маргариты“».
Однако работа над романом затянулась вовсе не из-за того, что Булгаков сомневался, как назвать героев и стоит ли уделять внимание следователю (который, кстати, в итоговой версии оказался не раскрытым: милицейское расследование описано только в главе № 27, «Конец квартиры № 50»).
Дело было в том, что поначалу автор хотел жесточайшим образом расправиться с Москвой и москвичами. Но чем дольше работал, тем больше «успокаивался» и сбавлял обороты. Может быть, потому что и сам всё больше верил в милосердие, а может — потому что питал пусть слабую, но всё-таки надежду на то, что в более «добродушном» виде произведение можно будет провести через цензуру. А может, имели место сразу обе причины.
Советский слэшер
Вымещая злобу на те обстоятельства, в которых он оказался, и «наказывая» окружающих за их трусость, зависть, лицемерие, глупость, одержимость деньгами, равнодушие к подлинному искусству и прочие нехорошие черты, Булгаков поначалу собирался добавить в роман целую охапку кровожадных сцен.
Измывательство над Берлиозом
В итоговой версии романа Берлиозу «всего-навсего» отрезает голову. А потом читателю демонстрируется коротенький эпизод, разыгравшийся на его похоронах. Скорее даже — статичная картинка, на которую взирают Маргарита и Азазелло.
— Да, — продолжал неизвестный гражданин, — удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!
— Какая голова? — спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове.<…>
— Да, изволите ли видеть, — объяснил рыжий, — сегодня утром в грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба.
— Как же это может быть? <…>.
— Чёрт его знает как! — развязно ответил рыжий. — <…> До ужаса ловко спёрли. Такой скандалище! И, главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова!
А вот в первоначальном варианте Берлиозу доставалось за троих. Во-первых, обстоятельства его смерти предполагалось расписать намного более подробно. Во-вторых, похороны должны были превратиться в фарс из-за вмешательства сошедшего с ума Ивана Бездомного. Вот как об этом пишет М. О. Чудакова, восстановившая сюжет первоначального (сгоревшего) варианта романа:
[В первоначальном варианте. — Прим. О. Л.] «в третьей главе <…> Иванушка, взбешённый издевками Воланда, <…> стирает „скороходовским сапогом“ (производства фабрики „Скороход“) лик Христа на песке — и тогда разворачивается картина гибели Берлиоза с гораздо большим количеством страшных подробностей катастрофы, чем в поздних редакциях. <…>
Глава шестая, „Марш фюнебр“ [„Похоронный марш“. — Прим. О. Л.], даёт неизвестный по другим редакциям вариант похорон Берлиоза: гроб везут на колеснице, бежавший из лечебницы Иванушка „отбивает“ гроб с телом друга у похоронной процессии, вскакивает вместо кучера, бешено настёгивает лошадь, за ним гонится милиция... Наконец на Крымском мосту колесница вместе с гробом обрушивается в Москву-реку (во второй редакции романа, оборванной на первых главах, Берлиоз резонно предполагает, что его после смерти сожгут в крематории, а „инженер“ возражает: „Как раз наоборот, вы будете в воде. — Утону? — спросил Берлиоз. — Нет, — сказал инженер“). Иванушка успевает свалиться с козел прежде, остаётся жив, и в девятой главе газеты сообщают, что он возвращен в лечебницу».
Расправа над сплетницей
В итоговой версии романа осталась только одна крайне неприятная советская женщина, зато какая: знаменитая Аннушка (которая, кстати, была «списана» с реальной соседки Булгакова по коммунальной квартире). Поначалу же автор собирался вывести некую «знаменитую поэтессу» Степаниду Афанасьевну, которая «проживала в большой благоустроенной квартире вдвоём с мужем-невропатологом... Страдая какими-то болями в левой лодыжке, Степанида Афанасьевна делила своё время между ложем и телефоном».
Она должна была разнести по всей Москве смачные сплетни о гибели Берлиоза. В наказание за одержимость сенсациями в конце романа её тоже предполагалось убить. Этот вывод можно сделать из реплики одного из персонажей: «Если б моя воля, взял бы я Степаниду да помелом по морде... Но, увы, нет в этом надобности — Степанида неизвестно где, и, вероятнее всего, её убили».
Горящая Москва
Перечисленных выше жестокостей автору казалось недостаточно. В какой-то момент, в наказание за свинское поведение советских граждан, Булгаков планировал «спалить» не только дом на Садовой, тот самый, где располагалась «нехорошая квартира», — а всю Москву целиком. В одной из промежуточных версий романа имелась вот такая вставка:
«Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. Там пылал трехэтажный дом напротив музея. Люди, находившиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель, искрошенные цветочные вазоны. Трамваи далее стояли вереницей. С первого взгляда было понятно, что случилось. Передний трамвай наскочил у стрелки на что-то, сошел с рельс, закупорил артерию. Но поэт не успел присмотреться, как под самыми ногами у него шарахнуло, и он видел, как оглушительно кричавший человек у стенки Манежа упал на асфальт, и тотчас же красная лужа образовалась у его лица...»
Огонь не должен был пощадить и подвал Мастера. Правда, сам герой, да и его возлюбленная радостно приветствовали бы это событие:
«В небе прогремело весело и коротко. Азазелло сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджёг скатерть на столе. Потом поджёг пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне. Мастер, уже опьянённый будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил её листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула весёлым огнём.
— Гори, гори, прежняя жизнь!
— Гори, страдание! — кричала Маргарита».
Современный литературовед А. Н. Ужанков предположил, что книгой, которой сжёг Мастер, была Библия.
В итоговой же версии этого эпизода нет. Город остаётся целым и невредимым; погибают только возлюбленные, выпившие отравленное вино.
Дискуссионный вопрос
Чаще всего при работе над произведением, обрастая всё новыми и новыми черновиками, автор поступательно идёт к усовершенствованию романа, и первоначальная версия явно проигрывает итоговой. А вот про «Мастера и Маргариту» так однозначно сказать нельзя.
А какую версию вы прочитали бы с бо́льшим удовольствием: первоначальную, с издевательскими похоронами Берлиоза и мёртвой поэтессой; промежуточную, со сгоревшей Москвой и торжествующим Мастером; или ту, на которой Булгаков, может, и не остановился бы, но которая стала окончательной из-за смерти Михаила Афанасьевича?